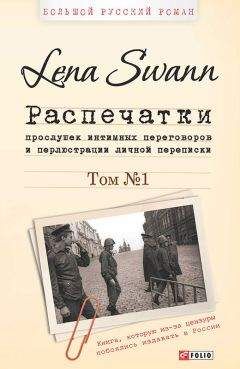Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2
Елену страшно подмывало выведать подробности, но язык не повернулся.
А Франциска тем временем, с самым что ни на есть хулиганским видом закинула ногу на ногу и, вдвинувшись поглубже, поудобнее на лавочку, и потирая пальцами виски, чуть сбивая при этом головной убор назад, и, сделав вид, как будто меняет тему, невесомо добавила:
— А знаешь, между прочим, какие здесь жесткие правила были в монастыре первые пятнадцать лет, после того как я сюда поступила! Нам вообще никуда не позволяли выходить за территорию — ни ногой! А гулять разрешали только вот здесь вот, во внутреннем дворике! Пока Консилиум не решил иначе.
— Кошмар! — не удержалась Елена. — Кто же имеет право вас ограничивать?! Кто же имеет право запрещать вам ходит в горы и любоваться сотворенной Богом красотой?! Вы же сами сказали: надо слушаться только Бога и себя!
Франциска хитренько улыбнулась, по-пацански засунула руки в карманы туники и оттопырила их:
— Ну, вот видишь! — и ее красивые брови выгнулись двумя крутыми мостиками, рифмуя очень шедший к ним черный шаперон. — Тебе это не по вкусу. Здесь — защита. Но это не рай. Ты же это прекрасно понимаешь. Сражение везде — и здесь, внутри — и там, снаружи. И так будет всегда, пока не…
И вдруг радостно, вся просияв, соскочила с лавки:
— А вот у меня есть кое-что для тебя, что точно тебе понравится! — и выудила из правого кармана облачения белую рыбину с блестящим серебряным глазом, сделанную из материала точно такого же сырого цвета, что и те тисненые прямоугольнички, в свечной лавке, которые Елена приняла за мыло.
— Что это?!
— Марципан, — и, быстро шебурша, разворачивая слюду, уже протягивала Елене, приговаривая: — Ешь, пожалуйста! Nur Mandeln, Zucker und Wasser, это мы здесь сами делаем! — скороговоркой перечисляла она ей ингредиенты. — Не волнуйся, — будто откуда-то знала про ее веганские фобии. И настояла, чтобы всю рыбу Елена непременно съела при ней же целиком.
И потом, когда Елена разжевала даже сладкую серебряную бусину глаза, Франциска как-то успокоенно выдохнула:
— Ну вот, теперь все будет хорошо. Иди.
И обняв ее, без всякой грусти, как будто расстается ровно на пять минут, Франциска улыбнулась и вприпрыжку, но чуть прихрамывая, побежала к другому зданию:
— У меня спевка хора — там, во внутреннем храме! Я бы тебя пригласила. Но тебе же к своим идти надо. Ничего не бойся. Увидимся! До скорого.
И это ее прощальное «До скорого» с каждым шагом, пока Елена шла обратно по направлению к церкви, все сильнее и сильнее освещало ее изнутри; как будто проглоченный впопыхах кусочек марципана излучал жаркое сияние и превратился в автономный реактор внутри нее, так что через несколько метров ей казалась, что она уже не идет, а летит, движется на воздушной подушке, не касаясь земли.
«До скорого. До скорого», — повторяла она — и это был как якорь, заброшенный у самого прекрасного из берегов, который в секунду перевесил все глупые мелочи.
Оглянувшись на скульптуру Катарины Сиенской — в самом центре внутреннего дворика, она, не веря своим глазам, вдруг разглядела, что у ног Катарины сидят две очень усатые кошки, один чрезвычайно интеллигентный павлин и одна крайне улыбчивая лягушка.
«Кроликов французских не хватает. И Бэнни с Куки», — дорисовала Елена; окинула еще раз прощальным взглядом зацветающий дворик и горы за озером, теперь будто обернутые жатой папиросной бумагой: вот она, вся послевоенная история Франциски. Ее география боя.
И влетела в церковь.
У южной, проваливающейся местами в первое тысячелетие, стены пламенели взлетно-посадочные огни в оранжевых длинненьких пластиковых стопочках на кованом чугуном столе.
Сверху, на полочке, покрытой белой скатертью с кружевными оборками, стояли махровые розовые тюльпаны, с рваными краями, в простой прозрачной баночке, и глиняный горшок с бордовыми цикламенами, вертикального взлета, в сливочную крапину.
Потолочные своды и арки при мерцающем освещении выглядели еще более изумительно неровными, рельефными, бугристыми, как будто вылепленными вручную ладошками сестричек — так что без труда можно было сказать, где лежал какой палец при лепке.
У алтаря возилась седая худенькая монахиня, отчищая что-то садовой лопаткой с мраморной предалтарной ступеньки.
Синяя с бледным золотом узина рококо алтаря в полумраке придавала храму пещерный уют.
— Сестра Синдереза! Сестра Синдереза! — шумно ворвалась в храм из южной двери дородная монахиня с нектариновыми щечками и темной челкой, пиратски выскакивающей из-под плата. — Вас зовут к телефону!
И принялась в темпе собирать молитвенники с сидений, раскладывая их столбиками в начале каждого ряда.
— Спасибо, сестра Вероника. Я тут уже все доделала, — ответила та, распрямилась, и прошествовала к двери, неся охряную лопатку в вытянутой руке, как дичь.
Елена подошла к алтарю и, с любопытством — что же там оттирала сестра Синдереза? — посмотрела на ступеньку: приалтарный перворельеф с намытыми и проеденными слезами дырами и кратерами, кой-где портили носатые рожи, слагавшиеся из каменных слоев и неровностей — кошмары из прежней жизни коленопреклоненных монашенок; а по центру на изъеденном веками камне виднелись легкие летучие лики — видимо, по большому блату запечатленные на прощание, на память о себе, душами сестер при уходе на другую, вечную, работу, даже без разрешения Консилиума, вряд ли когда-нибудь отпустившего бы их взлететь на такую высоту.
Вдруг ее кто-то цепко ухватил сзади за правую ногу. Елена вздрогнула от неожиданности. Девочка лет двух с четвертью от роду, с круглой мордой бутончиком, от души смеясь, вцепилась коготками в штанины ее джинсов, а потом отпустила — и с удовольствием шлепнулась задом на ковер посреди церкви, перевернулась на пузо и, демонстрируя профессиональные недюжинные навыки, покатилась по центральному проходу кубарем, как колбаса.
— Лина! Лина! — позвала ее мать, держа полуоткрытой дверь, напустив на плиту лужу солнца.
Пупс скатался в клубок, поднялся, колченого пустился наутек и скоро скрылся на улице за захлопнувшейся, как крышка кованого сундука, дверью.
Елена вернулась к свечам — четыре ступенчатых ряда взлетных огней жарко дышали в лицо. Она долго неумело пыталась перелить огонь из одной пластиковой чашечки в другую и зажечь свечу; но переливался только горячий расплавленный парафин, немедленно заливавший едва успевавший заняться огонь; и наоборот — когда она наклоняла не горящую свечку над горящей, то из нее моментально выпадал белый круглый парафиновый пирожок, и прибивал и ту свечу, которая до этого нормально себе горела; пока, наконец, не заметила снизу, под литой чугунной листвой спокойненько лежащую специальную тонкую свечку-лучину; и, ругая себя за идиотизм, зажгла, наконец, свечу, которая ладно вошла в ободок в верхнем ряду.
Чувствуя жар на лице, она, не отрываясь, следила за тем как, вначале матово-молочная, жесткая, парафиновая начинка расплавляется и делается слезно-прозрачной, так что становилось видно алюминиевое колечко, оброненное на самом дне этого парафинового пруда, до того как он застыл.
Сзади, как будто из другой жизни, доносились сводчатые, беленые, меловые голоса и шорохи.
Она закрыла глаза — и было все в огнях.
Вокруг нее поднялось вдруг немыслимое медовое благоухание — хотя ни одной медовой свечи в храме не было.
— Ты… тебя все ждут… пошли, — услышала она за правым плечом совсем нереальный голос Воздвиженского, подошедшего как-то беззвучно.
Она обернулась к нему — и по тому, как он смущенно осёкся, онемел и вперился в нее расширенными глазами, она догадалась, что свет от свечей, должно быть, прилип к ее лицу.
Она взяла его за руку и притянула к свечам:
— Ты чувствуешь?
Воздвиженский застенчиво улыбнулся, как будто его экзаменовали:
— Медом… пахнет, — произнес он, ошалело смакуя каждое слово.
И на какую-то секунду от отраженного света его профиль стал смугло иконным. И только по-свечному блестящие очки чуть портили облик.
А потом, как будто пытаясь стряхнуть с себя все, что он видит, слышит и чувствует, он в испуге махнул головой:
— Ты сумасшедшая, этого всего не бывает!
Сестра Вероника, уже давно порешившая служебные книги, отчаянно покашливала в подсобке. Елена не удержалась и перед выходом постучалась и зашла к ней.
Вероника мирно расправляла тупым мыском бежевой туфли швабре бакенбарды.
— Простите, а я вот вас хотела спросить — это не столь важно, но все-таки: вы, конечно же, мяса здесь никто никогда не едите? Сёстры, я имею в виду.
— Doch! Doch! — щекастая Вероника сложила морщинистые губы довольной шипастой розочкой, опровергая ее надежды. А потом, лукаво сжав полумесяцы глаз, растянула губы в длинную прямую бечеву — с выражением: рада была вас видеть, разговор окончен!