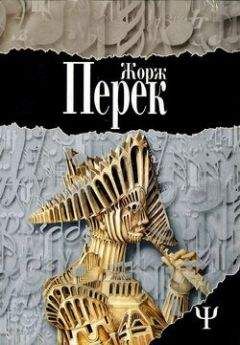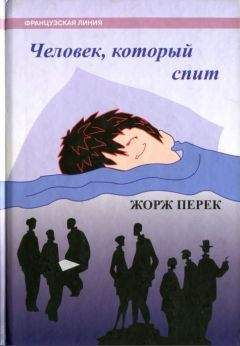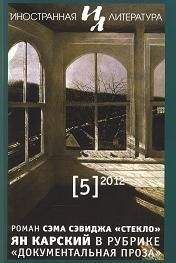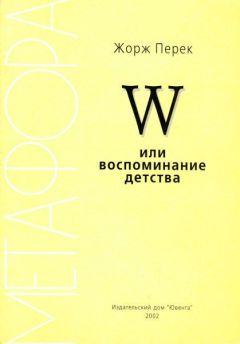Жорж Перек - Жизнь способ употребления
Чуть позднее залаяли собаки, и деревня наполнилась мужчинами, женщинами и детьми. Мужчины были вооружены копьями, но даже не думали ему угрожать. Никто на него не смотрел и, кажется, даже не замечал его присутствия.
Аппенццелл провел несколько дней в деревне, но так и не сумел войти в контакт с неразговорчивыми жителями. Он совершенно бездарно исчерпал свой скудный запас чая и табака; ни один кубу — это касалось даже детей — так и не взял ни один из пакетов, которые в результате ежедневных грозовых дождей были подпорчены и негодны к использованию. Самое большее, что ему удалось, это осмотреть, как живут кубу, и начать записывать то, что он увидел.
Его главное наблюдение, кратко изложенное в письме к Малиновскому, подтверждало, что оранг-кубу — действительно потомки достаточно развитой народности, которая, будучи изгнана со своей территории, ушла во внутренние леса и там регрессировала. Так, кубу по-прежнему носили на копьях железные наконечники, а на пальцах серебряные кольца, хотя сами уже разучились обрабатывать металлы. Что касается их наречия, то оно было очень похоже на языки побережья, и Аппенццелл понял его без особого труда. Особенно его поразило то, что кубу использовали крайне ограниченный словарь, не превышавший нескольких десятков слов, и он даже подумал, что по примеру своих дальних соседей, папуасов, кубу добровольно сокращали свой словарь, упраздняя слова всякий раз, когда в деревне кто-нибудь умирал. Одним из последствий подобного сокращения было то, что одно и то же слово обозначало все большее количество предметов. Так, малайское слово Pekee, означавшее «охота», означало еще и «охотиться», «ходить», «нести», «копье», «газель», «антилопа», «черная свинья»; а my'am, название очень острой специи, широко используемой при приготовлении мясной пищи, — «лес», «завтра», «заря» и т. п. Точно так же дело обстояло со словом cinuya — которое Аппенццелл сопоставил с малайскими словами usi («банан»), nuya («кокосовый орех»), — означавшее «есть», «еда», «суп», «калебаса», «лопатка», «скатерть», «вечер», «дом», «горшок», «огонь», «кремень» (чтобы добыть огонь, кубу чиркали один кремень о другой), «застёжка», «гребень», «волосы», и hoja' (краска для волос, изготовленная из кокосового молока, смешанного с землей и различными растениями). Из всех отличительных свойств жизненного уклада кубу лингвистический аспект известен лучше всего, поскольку Аппенццелл его детально описал в длинном письме шведскому филологу Хамбу Таскерсону, с которым познакомился в Вене и который в то время работал в Копенгагене с Ельмслевом и Брёндалем. Кстати, Аппенццелл отметил, что эту лингвистическую особенность можно обнаружить и в Западной Европе, у какого-нибудь столяра, который, подзывая своего подмастерья со специальным инструментом, имеющим конкретное название — пазник, пазовик, фуганок, крейцмейсель, шерхебель, зензубель и т. д., — скажет просто: «Дай-ка мне эту фиговину».
Утром четвертого дня, когда Аппенццелл проснулся, деревня оказалась безлюдна. Хижины были пусты. Все жители деревни — мужчины, женщины, дети, собаки и даже старики, которые обычно не слезали с циновок, — ушли, захватив свои скудные запасы ямса, своих трех коз, свои sinuya и свои pekee.
Аппенццеллу потребовалось более двух месяцев, чтобы их снова найти. На этот раз их хижины были наспех построены на берегу болота с тучами комаров. Как и в первый раз, кубу с ним не разговаривали, не отвечали на его попытки сближения; однажды, увидев, как двое мужчин пытались поднять толстый ствол дерева, сраженного молнией, он подошел к ним, чтобы помочь, но едва он дотронулся до их ноши, как мужчины бросили ее на землю и удалились. На следующее утро деревня вновь была пуста.
Почти пять лет Аппенццелл продолжал их упрямо преследовать. Всякий раз, когда он выходил на их след, они тут же от него ускользали, уходили еще дальше, к еще более диким местам, и возводили там еще менее прочные жилища. Долгое время Аппенццелл не мог понять, в чем смысл подобного миграционного поведения. Кубу не были кочевниками, у них не было никаких причин так часто переселяться; это не связывалось ни с охотой, ни с собирательством. Могла ли идти речь о религиозном ритуале, об испытании при инициации, о некоем магическом действии, связанном с рождением или смертью? Ничто не позволяло это утверждать; ритуалы кубу, если они вообще существовали, проходили в атмосфере глубокой секретности, и, казалось, ничто не связывало между собой их уходы, которые Аппенццеллу каждый раз представлялись совершенно непредсказуемыми.
Однако настал день, когда правда, жестокая правда предстала перед ним во всей своей очевидности. Истинную причину Аппенццелл ясно изложил в конце письма, отправленного матери из Рангуна месяцев через пять после своего отъезда:
«Какими бы горькими ни были разочарования, подстерегающие того, кто отдает себя душой и телом этнографии, — стремясь таким образом составить конкретное суждение о глубинной природе Человека или, иначе говоря, представление о социальном минимуме, который определяет условия человеческого существования в разнообразии различных культур, — он вправе надеяться лишь на то, что сумеет пролить свет на относительные истины (надежда постичь абсолютную истину иллюзорна). Наибольшая трудность, с которой мне пришлось столкнуться, была другого рода: я стремился отыскать высшую степень дикости, и разве я не был щедро вознагражден встречей с добродушными туземцами, которых никто не видел до меня и, возможно, никогда не увидит после меня? В результате увлекательных изысканий я наконец-то обрел своих дикарей и желал лишь быть одним из них, делить их жизнь, их горести, их ритуалы! Увы, оказалось, что я им не нужен, и что они совершенно не собираются знакомить меня со своими обычаями и верованиями! Им не было дела до подарков, которые я подносил, до помощи, которую я надеялся оказать! Они покидали свои деревни из-за меня; они всякий раз выбирали все более враждебные места, навязывая себе все более ужасные условия жизни лишь для того, чтобы меня обескуражить, чтобы меня убедить в тщетности моего упорства, чтобы мне доказать, что они предпочитают иметь дело с тиграми и вулканами, болотами, удушливыми туманами, слонами, ядовитыми пауками, чем с людьми! Я полагал, что в достаточной мере постиг физические страдания. Но мучительнее всего чувствовать, как умирает душа…»
Других писем от Марселя Аппенццелла не было. Поиски, предпринятые его матерью с целью найти ученого, оказались безрезультатными. Вскоре их прервала начавшаяся война. Упрямая мадам Аппенццелл не желала покидать Париж даже после того, как ее фамилия была занесена в список не носящих звезду евреев, который публиковал еженедельник «К позорному столбу». Как-то вечером какой-то доброжелатель просунул под дверь записку, в которой предупреждал о том, что на следующее утро ее должны арестовать. В тот же вечер ей удалось выехать в Лё-Ман, затем перебраться в неоккупированную зону и примкнуть к Сопротивлению. Она была убита в июне тысяча девятьсот сорок четвертого года под Вассьё-ан-Веркор.
Альтамоны — мадам Альтамон приходится мадам Аппенццелл внучатой племянницей — заняли ее квартиру в начале пятидесятых. На тот момент это была молодая пара. Сегодня ей сорок пять лет, ему — пятьдесят пять. У них семнадцатилетняя дочь Вероника, которая занимается акварелью и игрой на фортепьяно. Господин Альтамон — эксперт международного уровня, который почти никогда не бывает в Париже, и предстоящий большой прием, судя по всему, устраивается в честь его очередного ежегодного приезда.
Глава XXVI
Бартлбут, 1
Прихожая Бартлбута.
Это почти пустая комната, меблированная лишь несколькими плетеными стульями, двумя трехногими табуретами с красными круглыми сиденьями, украшенными мелкой бахромой, и длинной банкеткой с прямой спинкой, обитой зеленоватым молескином, какие некогда стояли в залах ожидания на вокзалах.
Стены окрашены в белый цвет, на полу толстое покрытие из пластика. К большому квадратному пробковому стенду, расположенному на дальней стене, приколоты почтовые открытки: поле боя при Пирамидах, рыбный рынок в Дамьетте, старая пристань китобоев в Нантакете, английская набережная в Ницце, высотное здание «Hudson’s Bay Company» в Виннипеге, солнечный закат на Кодкапе, Бронзовый павильон Летнего дворца в Пекине, репродукция рисунка, на котором Пизанелло вручает Лионелю д’Эсте футляр с четырьмя золотыми медалями, а также уведомительная открытка с черной каемкой:
В прихожей трое слуг Бартлбута пребывают в ожидании возможного звонка хозяина. Смотф с поднятой рукой стоит у окна, в то время как Элен, домработница, зашивает правый рукав тужурки, на котором под мышкой слегка разошелся шов. Клебер, шофер, сидит на одном из стульев. Он одет не в ливрею, а в вельветовые штаны с широким поясом и белый свитер с высоким воротом. На молескиновой банкетке он только что разложил пятьдесят две карты (в четыре ряда) картинками вверх и теперь собирается раскладывать пасьянс, который заключается в том, чтобы, изъяв из расклада четырех тузов и используя пустые места, разложить карты по масти в четыре правильные последовательности. Рядом с картами лежит открытая книга: это американский роман Джорджа Бретцли, озаглавленный «The Wanderers», действие которого происходит в нью-йоркской джазовой среде в начале пятидесятых годов.