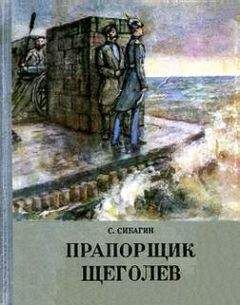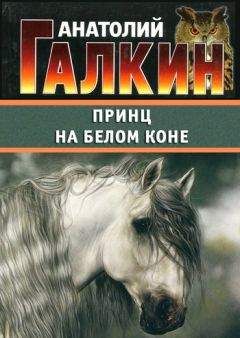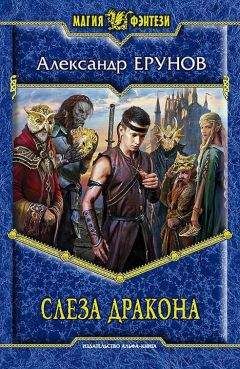Виктор Ерофеев - Бог X.
Другого солнца в русской поэзии не было. Было всякое, но солнца не было. Чем больше времени проходит со смерти человека, тем закономернее кажется его смерть, даже если она чудовищно неестественна. В любом случае Пушкин был бы не в силах остановить движение русской культуры в сторону совсем не культурной полезности.
Если совокупность противоречий, мимикрирующую под золотую середину, считать гармонией, то Пушкин гармоничен. В его стихах есть очевидное совершенство, в которое вновь и вновь приходится только верить не знающим русский язык. Пушкин принципиально непереводим. В переводах его стихи превращаются в ослепительную банальность. Непереводимость Пушкина, которая отличает его от культурных героев других народов, позволят сделать вывод о фантастической пустоте его поэзии. В сюжетном плане «Евгений Онегин» состоит из натяжек; «Капитанская дочка» по содержанию еще менее значительная вещь. Но именно здесь и зарыта собака. Пушкин имеет дело не с семантической наполненностью слова, а с его бестелесной аурой, которая у каждого слова имеет особое свечение. Поэзия Пушкина есть комбинация и колебание словесных аур. Эти ауры отражают скорее не состояние смысла, а как раз напротив – смысл пустотного состояния, а именно это и можно назвать вдохновением. Таким образом, Пушкин – самовыражение вдохновения в чистом виде, доказательство его наличия. То есть вера, которая фактически переходит в знание. А этого не бывает без оккультизма. А оккультизм противоположен, противопоказан трехмерному миру. Короче говоря, это значит, что Пушкина не было, нет и не может быть.
… год
Любовь к глупости
Главным киллером мировой литературы можно считать человеческую глупость. В последние десятилетия глупость приобрела размеры планетарной эпидемии. Об эпидемии глупости как-то не принято говорить, но она может оказаться сильнее СПИДа и прочих смертельных болезней. Она способна полностью уничтожить человека как вид. Угроза перерождения становится реальностью.
Глупость всегда была врожденным пороком, но культура долгое время умела кое-как справляться с ней. Культурный отбор осуществлялся иерархическим способом, блокируя дураку путь в высшее общество. Общество оставляло дураков внизу, в гуще черни, и они там мирно плодились и умирали, не слишком влияя на ход истории.
Дурак – понятие многогранное. Его отличительное свойство – неадекватность. Он чувствует себя бессмертным в самом узком атеистическом смысле этого слова. Он самодостаточен. Стоит только развратить дурака заботой о его интересах, как он становится хамом. Хам – основа любой революции. Он относится к другим, как к говну. Это особенно хорошо видно в нашем отечестве.
В XX веке глупость рванулась к власти. Ее победа впечатляюща. Глупость падка на демагогию (более того, именно положительным влиянием демагогии на человека определяется его глупость), в результате чего произошли блестящие тоталитарные перевороты в России, Германии, других местах.
Но тоталитаризм глупости, восторжествовавший, в частности, у нас, был еще только ее предварительной победой, поскольку осуществлялся на практике в таких диких формах, что порождал невольное сомнение этического и эстетического свойства. Прямая глупость – не слишком хорошая пропаганда глупости.
Гораздо успешнее укоренялась глупость в западных странах под лозунгом демократии. Как демократия, так и рыночная экономика оказались наиболее серьезной поддержкой для дураков. Рынок – рассадник глупости. Потребление – рай идиотов. Реклама – изощренная форма демагогии.
При конфронтации с тоталитаризмом демократия защищалась своим умом. Ум культивировался как средство выживания, что видно в иронической форме хотя бы по фильмам с Джеймсом Бондом, и демократия в конечном счете победила. Но, победив, она начала распадаться из-за отсутствия дебильного врага. То, что сдерживалось в течение десятилетий конфронтации, теперь, в отсутствии опасности (хотя можно ли говорить об ее отсутствии перед лицом разных вариантов фундаментализма?), растаяло и потекло фекальным потоком идиотизма.
Первой жертвой уничтожения глобальной конфронтации между Западом и Востоком стала мировая литература. Мировая литература сегодня – Титаник, увиденный в трех временных измерениях одновременно: за минуту до катастрофы, в ее момент и идущий ко дну. Совмещенность зрения предполагает целый набор апокалипсического удовольствия. Халатная беспечность перемежается воплем жертв, вопль жертв – салонной музыкой. Танго с рыбами. Коктейль с айсбергом.
Вглядимся в пассажиров. Что представляет собой обычный-типичный мировой писатель нашего времени, гость престижных ежегодных писательских тусовок в Торонто и Эдинбурге, лакомый кусок Франкфуртской книжной ярмарки?
Ставленник своих издательств, организующих писательский успех по схеме: престиж – деньги – престиж, он отрабатывает свой угрюмо-обаятельный имидж в бесчисленных интервью, испытывая аллергию к журналистам как к классу. Он знает: телереклама сильнее рецензий в газетах; он недолюбливает читателей и ненавидит критиков, но вынужден считаться со слабыми покупательными способностями первых и умственными – вторых. Разговору о литературе он предпочитает хорошее шотландское виски. С презервативом в кармане, выданном ему любящей женой на всякий пожарный, он любит бесплатные обеды и экскурсии на Ниагарский водопад, обычно скуповат, тщеславен, рассеян. Его порода видна в том, что он скучает в компании плоских людей и не выносит плоских шуток. Над ним – только нобелевские лауреаты, которые, как правило, еще более, чем он, экстравагантны. Те любят совсем неожиданные вещи: скажем, Фиделя Кастро, как Маркес, или терроризм и дельфинов одновременно.
Западный писатель брюзжит по поводу политической корректности, но признает ее как бытовую форму всеобщего примирения. Западная цензура, особенно американская, бывает покруче советской. Советский редактор отводил глаза, вычеркивая наиболее толковую мысль, и объяснял автору: у меня дети. Это была, как правило, совестливая цензура. Западная цензура не страдает стыдливостью. По работе с американскими и некоторыми европейскими (с последними все же легче) журналами и издательствами я знаю, что они, как огня, боятся непонимающих глаз читателей и заставляют безжалостно переделывать то, что может задеть читательское самолюбие.
Есть мнение, что существует мировая литературная мафия. Это мнение неудачников. Успех невозможно просчитать и организовать, бестселлер – чистое везение. Каждую национальную литературу представляет ограниченное число счастливцев. Один венгр, два поляка, четыре француза. Американцев несколько больше. Любят приглашать из несчастных стран, из бывшей Югославии, из Индии. Россия сейчас не в международной моде.
Последнее не случайно. Жизнь в России стилистически не оформлена, а традиционные этнографические романы мало кого волнуют. Беда наших писателей – малая энергетийность текста, повтор банальных истин, нечистота жанра. Никто почему-то не верит, что Россия может сказать что-то свое, незаимствованное, не украденное у других. Отчасти это правда.
Но не забудем, что мы на Титанике.
Некоторые писатели похожи на осторожных, разумных крыс. Они загодя бегут с корабля в спасательных жилетах. Гребут в сторону кино, телевидения, журналистики, политики, интернета, светской хроники. Другие одичало стучат на допотопных пишущих машинках, сидя в своих накуренных каютах, думая о смысле жизни, а также истории в то время, как жизнь и история готовы оборваться в любой момент. Третья группа писателей гуляет по буфету. Фестивали сменяются университетскими лекциями, мастер-классы – встречами с читателями, которые, впрочем, растворяются в тумане, как привидения.
Может быть, все это уже не имеет никакого значения?
Я родился писателем. Я не знаю, что это такое, кроме того, что это – особый дар. Нужность этого дара в том, что он сопротивляется всякой форме утилитарности. Тем самым создается воздух, благодаря которому люди отличаются от камней и других минералов.
Чтение есть участие в сотворении мира, то есть общение с основным мифом, который проступает как скелет в образах всяких религий и верований. Отсутствие готовой картинки развивает воображение, полезное при встрече со смертью.
А, может быть, все-таки пронесет?
Хорошим тоном во все времена считалось говорить о кризисе современной литературы. В разгар золотой поры русской словесности Белинский писал, что ее вовсе не существует. Критика пугала, писатели пугались, но литература шла дальше. На пороге нового, тысячелетия она, действительно, напоролась.
В литературе нет прогресса, но безусловно есть энтропия. Использованные приемы пародируются в следующем поколении писателей, затем выбрасываются на помойку. Но современная литература больше копается в этой помойке, чем ищет. Например, почти вся французская литература, если говорить о серьезных авторах, работает на отходах Пруста и Селина, бесспорно лучших писателей Франции XX века, но сколько же можно им подражать?