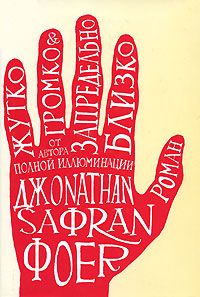Джонатан Фоер - Жутко громко и запредельно близко
Я открыла, и там стояла девочка в белой простыне с прорезями для глаз. Впусти или угости![54] — сказала она. Я попятилась.
Кто ты?
Привидение!
Почему ты так одета?
Потому что Хэллоуин!
Я не знаю, что это.
Дети в костюмах ходят по домам, и им раздают конфеты.
У меня нет конфет.
Но ведь Хэл-ло-уииин!
Я попросила ее подождать. Я пошла в спальню. Я достала из-под матраса конверт. Наши сбережения. Наши средства на жизнь. Я вынула оттуда две стодолларовые бумажки, положила их в другой конверт и отдала привидению.
Я заплатила ему, чтобы оно поскорей исчезло.
Я закрыла дверь и выключила свет, чтобы дети к нам больше не звонили.
Звери, должно быть, поняли, потому что они подошли и прижались ко мне. Я ничего не сказала твоему дедушке, когда он вернулся. Я поблагодарила его за газеты и журналы. Я пошла в гостевую спальню и притворилась, что пишу. Я била по клавише пробела, била, и била, и била. Моя жизнь была пробелом.
Шли дни, по одному за раз. А иногда по несколько сразу. Мы смотрели друг на друга и наносили маршруты на карту местности. Я говорила, что у меня глаза паршивят, потому что хотела его внимания. Мы отвели в квартире особые места, чтобы уходить в них и не существовать.
Я на все была готова ради него. Может, это была болезнь. Мы занимались любовью в ничто и выключали свет. Это было все равно, как плакать. Мы не смотрели друг на друга Он всегда брал меня со спины. Как в тот первый раз. И я знала, что он не обо мне думает. Он так стискивал мне бедра, так сильно толкал. Будто сквозь меня пытался прорваться еще куда-то.
Зачем люди вообще занимаются любовью?
Прошел год. Еще один. И еще один. И еще.
Мы себя обеспечивали.
Я не забыла о привидении.
Я хотела ребенка.
Что это значит — хотеть ребенка?
Я проснулась однажды утром и поняла пустоту внутри себя.
Я поняла, что могу пренебречь своей жизнью, но не жизнью, которая будет после меня. Я не могла это объяснить.
Потребность возникла раньше, чем объяснение.
Это случилось не вопреки моей воле, но и не по моей воле. Это не зависело от меня. Я хотела ребенка.
Я скрывала от него. Я хотела ему сказать, когда что-либо изменить будет уже невозможно. Моя самая сокровенная тайна. Жизнь. Внутри меня она была в безопасности. Я всюду носила ее с собой. Как он — нашу квартиру внутри тетрадей. Я надевала просторные блузки. Я сидела в обнимку с подушками. Я раздевалась, только входя в ничто.
Но вечно этого не скроешь.
Мы лежали в постели в темноте. Я не знала, как об этом сказать. Знала, но не могла. Я взяла один из его дневников с ночного столика.
В квартире никогда еще не было так темно.
Я зажгла лампу.
Вокруг нас стало светло.
В квартире стало еще темнее.
Я написала: Я беременна.
Я протянула ему тетрадь. Он прочитал.
Он взял ручку и написал: Как ты до этого допустила?
Я написала: Сознательно.
Он написал: А как же наше правило?
На следующей странице была дверная ручка.
Я ее перелистнула и написала: Я нарушила правило.
Он сел на постели. Я не знаю, сколько прошло времени.
Он написал: Все будет хорошо.
Я сказала, что это общие слова.
Все будет хорошо прекрасно.
Я сказала, что ложь больше не во спасение.
Все будет хорошо прекрасно.
Я заплакала.
До этого я никогда при нем не плакала. Это было все равно, как заниматься любовью.
Я, наконец, решилась задать вопрос, мучивший меня с тех пор, как мы отвели место под наше первое ничто много лет назад.
Что мы? Нечто или ничто?
Он приложил руки к моему лицу и тут же отдернул.
Я не знала, что это значит.
Утром я встала совсем простуженной.
Я не знала, разболелась ли из-за ребенка или из-за твоего дедушки.
Когда мы прощались перед его отъездом в аэропорт, я приподняла чемодан, и он показался мне тяжелым.
Так я узнала, что он уходит.
Я подумала, стоит ли его останавливать. Стоит ли побороть его и заставить себя любить. Мне хотелось уложить его на лопатки и кричать ему в лицо.
Я поехала за ним в аэропорт.
Я следила за ним все утро. Я не знала, как с ним заговорить. Я видела, как он пишет в своей книжице. Я видела, как он спрашивает у прохожих, который час, хотя все они указывали ему на большие желтые часы на стене. Было так странно видеть его на расстоянии. Такого маленького. Снаружи я волновалась за него совсем не так, как внутри квартиры. Я хотела защитить его от всего ужасного, что могло с ним произойти.
Я оказалась совсем близко. Прямо за ним. Я видела, как он написал: Плохо, что приходится жить, но еще хуже, что живешь только однажды. Я отступила. Не смогла быть так близко. Даже тогда.
Из-за колонны я продолжала смотреть, как он пишет, и спрашивает время, и потирает о колени свои огрубевшие руки. Да и Нет.
Я видела, как он встает в очередь за билетами.
Я подумала: Когда же я его остановлю?
Я не знала, просить ли его, объяснять, умолять. Когда подошла его очередь, я направилась к нему.
Я тронула его за плечо.
Я не слепая, — сказала я. Можно ли было сказать большую глупость. — У меня глаза паршивят, но я не слепая.
Что ты здесь делаешь? — изобразил он руками.
Внезапно я оробела. Я не привыкла робеть. Я привыкла стыдиться. Робость — это когда отворачиваешься от того, что хочешь. Стыд — это когда отворачиваешься от того, чего не хочешь.
Я знаю, что ты уходишь, — сказала я.
Иди домой, — написал он. — Тебе лучше лежать в постели.
Хорошо, — сказала я. Я не знала, как сказать то, что должна была сказать.
Давай я тебя провожу.
Нет. Я не пойду домой.
Он написал: Не сходи с ума. Ты простудишься.
Я и так простужена.
Ты простудишь свою простуду.
Меньше всего я ждала от него шутки. Еще меньше — что засмеюсь.
Смех перенес мои мысли за наш кухонный стол — как же много мы там смеялись. Только за тем столом мы и были близки. За столом, а не в постели. Все смешалось в нашей квартире. Мы ели за журнальным столиком в гостиной, а не за обеденным столом в столовой. Там было ближе к окну. Мы хранили тетради для его дневников в корпусе напольных часов, как будто дневники были временем. Мы клали его исписанные дневники в ванну гостевой ванной, потому что никогда ею не пользовались. Я хожу во сне, если вообще засыпаю. Однажды я включила душ. Одни тетради всплыли, другие нет. Утром я проснулась и увидела, что натворила. Вода была серой от его дней.
Я не схожу с ума, — сказала я.
Иди домой.
Я устала, — сказала я. — Не изношена, а стерта до дыр.
Вроде той жены, что просыпается однажды утром и говорит: Не могу я больше печь хлеб.
Ты его никогда и не пекла, — написал он, и мы все еще шутили.
Тогда будем считать, что я проснулась и испекла, — сказала я, и мы продолжали шутить. Я подумала, когда же мы перестанем? И что тогда будет? И что я почувствую?
Пока я была маленькой, моя жизнь была музыкой, звучавшей громче и громче. Все находило отзвук в моей душе. Собака, идущая за незнакомцем. Какая бездна переживаний. Календарь, открытый не на том месяце. Я могла из-за этого разреветься. И ревела. Где кончился дым из трубы? Как покатившаяся бутылка остановилась у самого края стола.
Я всю жизнь учусь чувствовать меньше.
Каждый день я чувствую меньше.
Это старость? Или что-то похуже?
Нельзя отгородиться от грусти, не отгородившись от радости.
Он уткнулся лицом в обложку дневника, как в ладони. Он плакал. По ком он плакал?
По Анне?
По своим родителям?
По мне?
По себе?
Я взяла у него тетрадь. Она намокла, и слезы текли по ее страницам, как будто это тетрадь плакала. Он уткнулся лицом в ладони.
Меня не надо стесняться, — сказала я.
Я не хочу причинять тебе боль, — сказал он, повернув голову слева направо.
Ты делаешь только больнее, когда не хочешь причинять боль, — сказала я. — Меня не надо стесняться.
Он опустил руки. На одной щеке было написано ДА наоборот. На другой — НЕТ наоборот. Он по-прежнему смотрел вниз. Слезы больше не текли по щекам, а падали из глаз прямо на пол. Меня не надо стесняться, — сказала я. Я не считала, что он мне обязан. Я не считала, что обязана ему. У нас были взаимные обязательства, а это совсем другая область.
Он поднял голову и посмотрел на меня.
Я на тебя не сержусь, — сказала я.
А должна.
Я сама нарушила правило.
Но я установил правило, которое было для тебя неприемлемо.
Мои мысли сбивчивы, Оскар. Они уносятся в Дрезден, к маминым жемчугам, влажным от пота на ее шее. Мои мысли скользят вверх по рукаву отцовской шинели. Какая большая и сильная у него рука. Я верила, что она всегда меня защитит. И она защищала. Даже когда его не стало. Воспоминания о его руке обвивают меня, как когда-то сама рука. Каждый день был прикован к прошедшему дню. Но у недель вырастали крылья. Тот, кто думает, что секунда быстрее десятилетия, не поймет моей жизни.