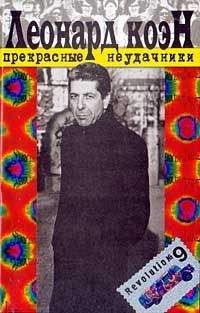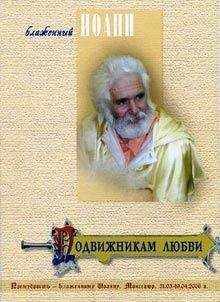Альбер Коэн - Любовь властелина
Она вдохнула эфира, улыбнулась. Когда он уезжал в командировку, он отправлял ей кодированные телеграммы, если текст был слишком пылким, о, какое счастье было их расшифровывать, а она посылала ему телеграммы из сотен слов, чтобы он сразу мог понять, как она любит его, о, приготовления к его приезду, заказы у кутюрье, часы, посвященные совершенствованию красоты, и она пела пасхальный гимн, воспевала пришествие божественного Царя. А теперь они скучают вместе, не желают более друг друга, они заставляют себя желать друг друга, вынуждают себя, она хорошо понимала это, давно поняла.
О чем ты думаешь? — спросила она. Ни о чем, ответил он, и поцеловал ей руку, и посмотрел на нее. Этой ночью она вошла к нему маленькой девочкой, с жалким лукавством сказала «добрый вечер, дядюшка», уселась на колени к дядюшке, сверкая голыми ляжками, шепнула ему на ушко, что была плохой девочкой, что он может ее наказать. О, тоска, о, нелепость — но тем не менее в этом гротеске было величие, их бедная страсть восстала против собственной агонии, и ей пришлось прибегнуть к идиотской пошлости, это была последняя надежда их несчастной страсти. В полночь она предложила позвать Ингрид, и он согласился, согласился от отчаянья, потому что она так хотела, чтобы вдохнуть жизнь в их умирающую страсть. Бедные они, изгнанные из рая. Она взяла его за руку.
— Любимый, ты хочешь? — спросила она.
Он сжал ее руку, кивнул: да, он хочет. Тогда она встала и вышла.
CVВ своей комнате она взяла книгу, лежащую на столе, открыла, прочла несколько строчек, не понимая смысла, положила на место, расшнуровала пеньюар, сбросила его. В холодном поту, с отрешенной улыбкой на губах, она наклонилась и подняла его, подбросила несколько раз, вновь бросила, схватилась руками за щеки. Да, это была она, щеки ее были теплыми, руки ее могли двигаться, она могла управлять своим телом. О, моя любовь, бесконечно хранящаяся во мне и бесконечно извлекаемая на поверхность, чтобы полюбоваться ею, и вновь сложить и положить на место, в сердце, и закрыть на ключ. Ей так нравилась эта фраза, что она даже записала ее, чтобы не забыть. Однажды вечером он вошел в маленькую гостиную, и любовь поразила их обоих, как молния, и они одновременно упали друг перед другом на колени.
Она села за стол, достала из коробки порошки, пересчитала их. Тридцать, в три раза больше, чем нужно для двоих, потому что врач в Сан-Рафаэле сказал ей, что пять порошков — смертельная доза. Она выложила из них круг, потом крест. Ох, а он там ждет. Начинать, надо начинать. Она встала, потерла щеки, с той же отрешенной улыбкой. Да, в ванную, и использовать все пакетики, для верности. Перед умывальником она открыла один пакетик, разорвав тонкую упаковку. В детстве она просила взрослых отдавать ей маленькие белые бумажки из-под нуги, это было своего рода чудо, они таяли во рту, растворялись целиком. Она открыла все пакетики один за другим, высыпая содержимое каждого в стакан с водой, помешала ручкой зубной щетки, чтобы частички растворились, отлила половину жидкости в другой стакан. Стакан для него, стакан для нее.
Выйдя из ванной, она тщательно причесалась, надушилась, напудрилась, надела румынское платье с широкими рукавами, собранными на запястьях, платье для ожидания на пороге под розами. В зеркале отразилась красавица, она подняла два стакана и сравнила, равное ли там количество жидкости. Она так же сравнивала стаканы, чтобы проверить, поровну ли грушевого сиропа налили ей и Элиане. Часто они пили его неразбавленным, было так вкусно. Она никогда и нигде больше не встречала подобного грушевого сиропа, только у Тетьлери такой делали, очень вкусный, с легким привкусом гвоздики. Его пили летом, разбавляя студеной колодезной водой. Гудение пчел, лето, жара. Надо выпить залпом, не раздумывая. Она в детстве не любила пить лекарства, Тетьлери ее уговаривала. Давай, решайся, пей, потом сама будешь рада.
Она поднесла стакан к губам, попробовала. На дне плавали крупинки. Она опять помешала ручкой зубной щетки, закрыла глаза, выпила половину, остановилась с улыбкой, исполненной ужаса, услышала гудение пчел в жару, увидела маки среди волнуемых ветром колосьев, вздрогнула, одним духом проглотила остаток, всю красоту мира. Девочка умница, все выпила, говорила Тетьлери. Да, все выпила, в стакане больше ничего не было, она проглотила даже осадок и теперь чувствовала на языке его горечь. Быстро, пора к нему.
CVIСлавный мак, мадам, пропел далекий голосок из детства, когда она вошла к нему со стаканом в руке. Он ждал ее, стоя посреди комнаты, в своем длинном халате похожий на архангела, прекрасный, как в их первый вечер. Она поставила стакан на столик у изголовья. Он взял его, посмотрел на танцующие в воде крупинки. Здесь его неподвижность. Здесь конец деревьям, морю, которое он так любил, его родному морю, прозрачному и теплому, в котором видно дно — никогда больше. Здесь — конец его голосу, конец его смеху, который они все так любили. Твой чудесный жестокий смех, говорили они. Жирная муха снова закружила, зажужжала — активная, готовая, предвкушающая удовольствие.
Он выпил залпом и замер. Самое лучшее осталось на дне, надо допить до конца. Он встряхнул стакан, поднес к губам, выпил осадок, выпил свою неподвижность. Поставил стакан, лег, и она легла рядом. Вместе, сказала она. Обними меня, прижми к себе покрепче, сказала она. Поцелуй ресницы, это означает великую любовь, сказала она, заледеневшая, странно дрожащая.
И тогда он обнял ее, и сжал, и поцеловал ее длинные изогнутые ресницы, и это был их первый вечер, и он сжал ее со всей силой своей смертельной любви. Еще, сказала она, обними меня еще, еще сильнее. О, ей нужна была его любовь, скорей, и больше, потому что дверь скоро должна была открыться, и она прижималась к нему, и хотела чувствовать его, и сжимала его изо всех своих предсмертных сил. Тихо, лихорадочно она спросила его, встретятся ли они потом, там, и улыбнулась, да, они встретятся там, улыбнулась, и немного слюны выступило на ее губах, улыбнулась, что там они всегда будут вместе, и только любовь, только истинная любовь будет там, и уже слюна текла на ее платье для ожидания любимого.
И вот снова послышался вальс, вальс их первого вечера, долгий вальс, и у нее закружилась голова, когда она танцевала со своим властелином, который держал ее и вел ее, танцевал с ней, не замечая никого кругом, и она любовалась собой, кружащейся под музыку, в огромных зеркалах по стенам — изящная, взволнованная, самая любимая женщина, любовь своего властелина.
Но ноги ее вдруг отяжелели, и она больше не могла танцевать. Где же ее ноги? Побежали ли они вперед, ждут ли они ее там, в церкви в форме горы, в горах, где свищет черный ветер? О, этот зов, и дверь открывается. О, какая большая дверь, какой непроглядный мрак, и ветер свищет за дверью, ветер без конца, влажный ветер с запахом земли, холодный ветер черноты. Любимый, тебе стоит надеть пальто.