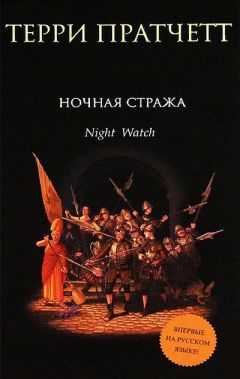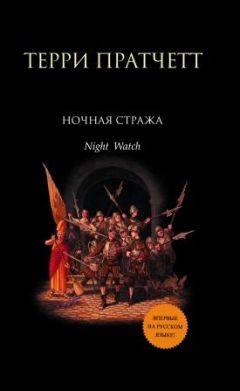Эффект пустоты (СИ) - Терри Тери
— Куда мы едем? — спрашивает мама у Брайсона.
— На временную оперативную базу армии. Мы помогаем в наборе группы, которая займется анализом распространения заболевания. Нам придется на сутки поместить вас обоих в карантин. Если у вас не появится признаков болезни, то, надеемся, вы сумеете нам помочь.
— Я очень надеюсь и на первое, и на второе, — говорит мама.
— Я тоже.
Мне страшно. Когда мы приезжаем на базу, где маму и Кая помещают в карантин, я снова чувствую себя узницей, как в подземелье на Шетлен-дах. Хотела остаться с ними, но не могу допустить, чтобы меня снова заперли. Им измеряют температуру и говорят, что если за двадцать четыре часа не появится симптомов и температура будет в норме, то их выпустят. Мама требует доступа ко всему, что им на данный момент известно о ситуации.
Что, если они заболеют? Они умрут? Я не умерла, когда заболела. Было так больно, что я уже решила, будто умираю, а потом стало легче. Но если мама и Кай умрут, станут ли они привидениями, как я? Сможем ли мы быть вместе, услышат ли они меня, поговорят ли?
Все то, чего мне хочется и не хочется, завязывается в какой-то непонятный узел. Хочу, чтобы они узнали: я здесь, хочу, чтобы со мной поговорили. Но не хочу, чтобы они кричали от боли. Не хочу, чтобы умирали.
Некоторое время я наблюдаю за ними. Кай все посматривает на свой телефон, словно хочет позвонить, потом убирает его в карман. Мама ходит туда-сюда, ожидая, когда ей передадут компьютер с информацией, собранной по «абердинскому гриппу».
Смотрю на них сквозь прозрачную стену и только расстраиваюсь, потому что предчувствия одолевают дурные. Теперь не только они меня не слышат, но и я их.
Чтобы отвлечься, иду побродить по базе. Она раскинулась под открытым небом на холмах под Абердином; вокруг зелено, вдали видны очертания города. Брайсон сказал, что база временная, но хотя здесь палатки вместо зданий и свежевытоптанная трава, она кажется чем-то очень прочным и основательным. База огорожена высоким забором с колючей проволокой наверху. Ворота, через которые мы въехали, похоже, единственные и для прибывающих, и для тех, кто выезжает. Их охраняют люди в костюмах биозащиты и с оружием в руках. Группы охранников ходят патрулями вдоль забора.
Не думаю, что это построили за один день. Базу подготовили заранее.
Брожу по ней и слушаю: в кафетерии, на собраниях. Некоторые отходят в сторонку и, когда думают, что их не видят, достают телефоны и звонят — предупреждают людей, чтобы уезжали и прятались.
Одно ясно: дела плохи, очень плохи. Все напуганы.
Оно вырвалось с Шетлендов, и теперь уже ничто и никогда не будет прежним.
19
ШЭЙ
Я сплю, но не сплю, и то и другое одновременно. У меня раскалывается голова, и я слышу голос, зовущий: мама, мама. Это мой голос? Должно быть, он где-то далеко, словно принадлежит не мне.
Открывается дверь. Из холла врывается свет, тупым топором бьющий по голове и заставляющий кричать.
Мама успокаивает меня, кладет руку на лоб.
Боль глубоко внутри, и я плачу. Стараюсь остановиться, но не могу.
Мама говорит что-то вроде никто тебя не заберет; пока я здесь, я им не позволю.
Она суетится надо мной. Кладет что-то холодное на голову, подает один из своих отваров напиться. Я не могу поднять голову, и она поддерживает ее, подносит чашку к моим губам. На вкус вполне сносно. Должно быть, я действительно больна.
Мама помогает мне сесть. Движения отдаются болью в черепе, словно я — язык колокола, бьющийся о его края снова и снова, и я опять рыдаю.
— Держись, милая, — говорит мама, и я пробую справиться с собой, но из глаз все равно льются слезы.
— Я его подхватила? Этот абердинский грипп? Я умру? — У меня получается только шептать.
— Ни за что. Ты, наверное, съела что-нибудь не то, — отвечает мама. — Все будет в порядке.
Она одевает меня, а я нахожу в себе силы взять телефон и сунуть в карман. Я же обещала Каю, не так ли?
Теперь мы снаружи дома, и я с облегчением чувствую кожей прохладный ветерок. И дышится легче.
— Куда мы? — спрашиваю я.
— Прочь отсюда. Думаю, нам нужен небольшой отдых. — И она ведет меня по тропинке к озеру. Я опираюсь на нее, пробую помочь и не шататься, но сил совсем нет. Руки и ноги как деревянные — словно чужие, словно принадлежат не мне.
Наконец добираемся до берега, и она усаживает меня на скамейку у маленькой пристани, где мы привязываем свою лодку. Мягко плещутся волны, но для меня их звук — как рев цунами в голове.
— Подожди здесь минутку, Шэй. Не двигайся.
Шепотом обещаю не шевелиться. Даже если бы захотела, не смогла.
Уходит она больше чем на минуту. Смотрю в ночное небо. Боль не ослабла, но я привыкаю к ней. Уже могу выносить ее почти без слез, если не двигаюсь. Но небо… оно выглядит как-то неправильно. Луна и звезды такие яркие, что я едва могу на них смотреть; вокруг них разноцветные нимбы.
Возвращается мама. Она много чего тащит. Помогает мне забраться в лодку и советует лечь, если хочется, а потом подкладывает под голову что-то мягкое.
Мама гребет. Не знаю, бодрствую я или сплю. Холодный воздух и колыхание волн успокаивают, но внутри все еще хозяйничает боль: болит в голове, в груди. Болит все тело.
Я могу закрыть глаза и просто дышать. И попробовать мысленно обособиться от боли. Положить ее в ящик и закрыть. И не открывать. Она все еще там, знаю, что там, но я могу сделать вид, что ее нет.
Время идет. Может, я сплю, не знаю. Лодка натыкается на что-то, и толчок болью отзывается в голове. Я вскрикиваю.
— Извини, Шэй. Мы уже на месте. Ты должна немного мне помочь.
Открываю глаза. Еще ночь. Теперь звезды ярче, они неестественно яркие и сияют, как наше солнце, заливая светом все небо. Пробую сесть и не могу. Мама помогает мне.
— Где… — шепчу я, но в горле встает комок, и я сглатываю. Слова наружу не выходят.
— Іде мы? На участке, где предполагается застройка; идем в убежище, где можно спрятаться от этих парней. Хорошее место, чтобы укрыться. Никто его еще не нашел, но поверь мне: они пытались.
Хорошее место, чтобы укрыться? Ее слова плавают в голове, но смысл от меня ускользает.
Мама помогает мне идти. Принимает на себя большую часть моего веса, иначе я не смогла бы двигаться. Пробую извиниться перед ней, но слова отдаются в голове такой болью, что я снова принимаюсь плакать.
— Ш-ш-ш, ш-ш-ш, Шэй. Мы скоро придем. — Она начинает напевать колыбельную, я фокусируюсь на ней и на запирании боли в ящике. Теперь ящика не хватает, нужен сервант, потом платяной шкаф. А потом целая комната в доме.
Мы пришли. Здесь что-то вроде убежища под тентом из пестрого холста, который растворяется на фоне окружающих деревьев и кустов. Мама прислоняет меня к дереву. В руках у нее оказывается один из тех матрасов, которые каким-то образом сами надуваются простым нажатием кнопки. Она кладет его под тент, накрывает одеялом. Помогает мне лечь.
— Ш-ш-ш, девочка. Засыпай. Ш-ш-ш…
Не уверена, что сплю. Позже открываю глаза — мамы нет. Боль теперь занимает целый футбольный стадион. Билета у меня нет, так что мне туда не пройти; все в порядке.
Она возвращается, волоча вещи из лодки, целует меня и снова уходит.
Закрываю глаза, и все погружается во тьму.
20
КЕЛЛИ
Иду назад посмотреть на спящих маму и Кая. Поздняя ночь, и за стеклом в их кабинке темно; по эту сторону сидит часовой. У него инфракрасная камера. На экране видны они и показания температуры их спящих тел. Часовой следит, не изменятся ли показания.
Цифры остаются зелеными — значит, все нормально.
Считаю минуты до того момента, когда их выпустят. Идут часы: один, другой. На стене медленно тикают стрелки. Слышу дыхание часового.
Возле него звонит телефон; он снимает трубку.