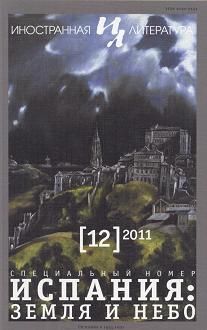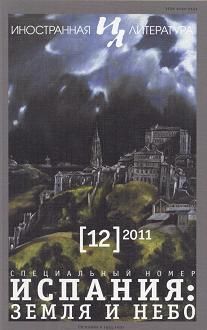Зима в Лиссабоне - Молина Антонио Муньос
— Он здесь с тех самых пор, как мистер Сван поступил к нам на лечение.
Монахиня сказала это шепотом, но Оскар тут же встрепенулся, потер глаза и улыбнулся Биральбо с усталой благодарностью и легким удивлением.
— Он пошел на поправку, — сказал Оскар. — Сегодня ему гораздо лучше. Испугался, что пропустил день концерта.
— Когда вы собирались играть?
— На следующей неделе. И он уверен, что мы сыграем.
— Мистер Сван не в своем уме, — монахиня покачала головой, и крылья токи затрепетали в воздухе.
— Сыграете, — сказал Биральбо. — Билли Сван бессмертен.
— Вряд ли. — Оскар потер глаза крупными белокожими пальцами. — Пианист с ударником уехали.
— Я поиграю с вами.
— Старик обиделся на то, что ты отказался ехать в Лиссабон, — сказал Оскар. — Сначала, когда мы только привезли его сюда, он даже не хотел, чтобы я тебе звонил. Но в бреду все время повторял твое имя.
— Можете войти, — сказала монашка через приоткрытую дверь. — Мистер Сван не спит.
Прежде чем разглядеть что-нибудь, Биральбо, вместе с запахом болезни и лекарств, почувствовал огромную волну преданности и нежности, ощутил свою вину, а еще — глубокое почтение и облегчение, ведь он отказался ехать в Лиссабон и в наказание за это едва не потерял Билли Свана навсегда. «Какое грязное предательство, — сказал он мне однажды, — даже когда любовь прошла, человек способен предпочесть эту самую любовь своим друзьям». Он вошел в комнату Билли Свана, но все еще не видел его: комната была очень темная, одно окно, клеенчатый диван, на котором лежал черный футляр от трубы, а справа — высокая белая кровать и лампа, бросавшая косой свет на грубые обезьяньи черты лица, на худое тело, облаченное в абсурдную полосатую пижаму и почти неразличимое под одеялами и покрывалами. Билли Сван покоился на ложе, вытянув руки вдоль туловища и оперев голову на огромные подушки, так неподвижно, будто позировал для похоронной статуи. Услышав голоса, он зашевелился и потянулся к ночному столику за очками.
— Сукин ты сын, — произнес он, длинным желтым пальцем указывая в сторону Оскара. — Я же запретил звонить ему. Я же сказал, что не хочу видеть его в Лиссабоне. Ты вообразил, что я при смерти, так? И стал созывать старых друзей на похороны Билли Свана…
Его руки немного дрожали, они были худы как никогда, будто состояли из одних костей, так же как скулы, виски и плотно сжатые челюсти; казалось, это уже труп, костяк, превратившийся в пародию на живого человека, которого когда-то поддерживал. Одни жилы да кожа, исполосованная выступающими венами алкоголика; даже черная оправа очков сделалась частью скелета, того, что останется, когда человек уже давно будет мертв. Но в глазах, будто вдавленных в неуклюжую картонную маску, и в неровной линии рта еще светились не тронутые тлением гордость и насмешка, священная власть ругать и осуждать, более законная, чем когда-либо, потому что на смерть он смотрел с тем же пренебрежением, как в прежние времена — на неудачи.
— Вот, значит, ты и приехал, — сказал он Биральбо, обняв и опершись на него, как обманщик-боксер. — Играть со мной в Лиссабоне отказался, зато примчался, чтоб посмотреть, как я умираю.
— Я приехал, чтоб попросить принять меня в группу, Билли, — ответил Биральбо. — Оскар сказал, что у тебя нет пианиста.
— Язык что у Иуды. — Не снимая очков, Билли Сван снова погрузил голову в пену подушек. — Ну да, ни ударника, ни пианиста. Никто же не хочет играть с мертвецом. Чем ты занимался в Париже?
— Читал детективы в кровати. Ты не мертвец, Билли. Ты гораздо живее нас.
— А вот поди объясни это Оскару, и монашке, и врачу. Они, входя сюда, встают на цыпочки, чтоб взглянуть мне в лицо, будто я уже в гробу.
— Двенадцатого мы с тобой сыграем вместе, Билли. Как в Копенгагене в старые времена.
— Откуда тебе знать о старых временах, парень? Это ж было еще до того, как ты родился. Все остальные померли в нужный момент и уже тридцать лет играют в преисподней — или куда там Бог отправляет людей вроде нас. Посмотри на меня — я тень, ссыльный. Только выслали меня не из страны, а из времени. Мы, те, кто остался, все притворяемся, что еще живы, но это ложь — мы мошенники.
— Ты никогда не лжешь, когда играешь.
— Нои правды не говорю…
Билли Сван засмеялся, и его лицо исказилось как от болевого спазма. Биральбо вспомнил фотографии с его первых дисков, его профиль то ли наемного убийцы, то ли героя-негодяя с отблескивающим набриллиантиненным вихром между глаз. Вот что сделало время с его лицом: сморщило его, вдавив лоб с жалкими остатками того дерзкого вихра и соединив в одну гримасу на будто сдувшейся голове — нос, рот и подбородок с ямкой, почти исчезавший, когда Билли Сван играл на трубе. Биральбо подумал, что, может быть, этот человек действительно мертв, но он никем не сломлен — никем, ничем и ни разу в жизни — он сильнее даже выпивки и забвения.
В дверь постучали. Оскар, который так и стоял безмолвным стражником около входа, немного приоткрыл дверь, чтоб посмотреть, кто там: в щель просунулась крылатая голова монашки. Она окинула комнату внимательным взглядом, будто высматривала тайно пронесенный виски, и сказала, что уже очень поздно, мистеру Свану надо дать поспать.
— Я все равно никогда не сплю, сестра, — отозвался Билли Сван. — Вы бы лучше принесли мне кувшин освященного вина или попросили своего католического Бога, чтоб избавил меня от бессонницы.
— Я приду завтра. — Биральбо, детским страхом боявшийся белых монашеских ток, тут же безропотно принял необходимость уйти. — Звони мне, если что-то понадобится. В любое время. Оскар знает телефон отеля, где я остановился.
— Не надо приходить завтра. — Глаза Билли Свана за стеклами очков казались страшно большими. — Уезжай из Лиссабона. Сегодня же. Я не хочу, чтобы ты ошивался тут и ждал, когда я умру. И Оскар пусть едет с тобой.
— Мы сыграем вместе, Билли. Двенадцатого числа.
— Ты не хотел ехать в Лиссабон, помнишь? — Билли Сван приподнялся, опираясь на Оскара и смотря мимо Биральбо, точно слепой. — Я знаю, что тебе было страшно, и поэтому ты выдумал сказку про то, что у тебя контракт в Париже. Нечего теперь раскаиваться. Ты же все так же боишься. Послушай моего совета: уезжай отсюда, беги, не оборачиваясь.
Но в тот вечер боялся сам Билли Сван, сказал мне Биральбо. Он боялся смерти, или что кто-нибудь увидит, как он умирает, или что он будет не один в последние часы перед кончиной: он боялся не только за себя, но и за Биральбо, а может — кто знает — лишь за него: он не должен был увидеть то, что сам Билли уже смутно различал в этой комнате санатория на краю света. Будто чтобы спасти друга от кораблекрушения или от заражения смертью, трубач потребовал, чтобы он ушел, а потом в изнеможении упал на подушки — монашка поправила ему одеяло и выключила свет.
Вернувшись на станцию, Биральбо с удивлением обнаружил, что было только девять вечера. Ему подумалось, что все те места — санаторий, лес, деревня, замок с коническими башнями и поросшими плющом стенами — исключительно ночные, что над ними никогда не бывает рассвета или они тают, как туман, при первых же солнечных лучах. Ожидая поезда, он выпил в столовой рюмку крепкой настойки опалового цвета и выкурил сигарету. С какой-то смесью счастья и ужаса ощутил себя затерянным и чужим в этом городе — гораздо сильнее, чем в Стокгольме или в Париже, потому что эти названия, по крайней мере, существуют на картах. С пугающей надменностью, присущей одинокому человеку в чужой стране, он опрокинул вторую рюмку настойки и зашел в вагон, четко зная, в какое состояние сознания его погрузят алкоголь, одиночество и езда. Увидев приближающиеся огни города, он произнес «Lisboa», как произносят имя женщины, которую целуют бесстрастными поцелуями. На какой-то станции заброшенного вида поезд остановился рядом с другим, ехавшим в противоположном направлении. Раздался свисток, и оба состава медленно начали двигаться, послышался лязг неритмично бьющихся друг о друга металлических частей. Биральбо, подавшись вперед, стал вглядываться в окна другого поезда, рассматривать застывшие и далекие лица, которые больше никогда не увидит, взиравшие на него так же меланхолично, как и он на них. В последнем вагоне, за мгновение до красных огней и надвигающейся темноты, одиноко сидела женщина: она курила, склонив голову, настолько погруженная в свои мысли, что, когда поезд тронулся, даже не подняла глаза, чтоб взглянуть в окно. Темно-синий жакет, поднятый воротник, очень короткая стрижка. «Наверное, это из-за стрижки, — сказал мне потом Биральбо, — наверное, поэтому я ее не сразу узнал». Он вскочил на ноги и стал делать знаки руками в темноту, но это было совершенно бессмысленно: когда Биральбо наконец осознал, что только что видел Лукрецию, встречный поезд уже скрылся в туннеле.