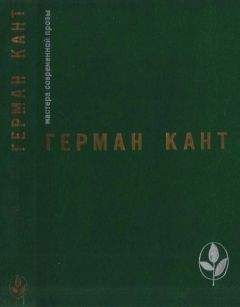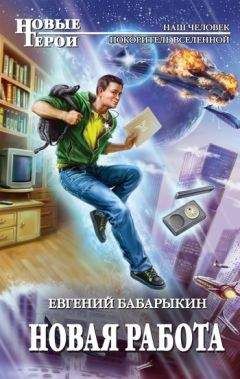Юрий Поляков - Работа над ошибками
– Разве я вернула не все книги?
– При чем тут книги… Что случилось?
– Зачем объяснять? – равнодушно улыбнулась она. – Ты сам говорил, что слова начинаются там, где кончается все остальное…
– Но ведь…
– Но ведь ты сам всегда говорил, что любовь – соавторство…
– А что ещё я говорил?
– Ты говорил так много, что мне надоело. Извини, меня ждут. Пока!
Интересно, что, только бросая меня или, как говорят мои дети, «снимая с пробега», она назвала наши встречи картонным словом «любовь». И вот тогда я впервые в жизни почувствовал себя «брошенным», впервые ощутил, сколько в этом обыкновенном страдательном причастии ледяной, перехватывающей дыхание пустоты и беспомощного страдания. Я стоял и тупо смотрел, как, роясь в сумочке, она подошла к подземному переходу и начала спускаться вниз, точно погружаться в землю, а потом качнула пучком волос, похожим на проросшую луковичку, и пропала. Рассказывали, очень скоро она вышла замуж за своего сослуживца, инспектора пожарной охраны. У неё была очень странная походка, плавная, опасливая, как будто она шла по затихшему дому и боялась скрипом половиц разбудить уснувших жильцов. Как выясняется теперь, у неё была ещё одна особенность, или даже достоинство: она была похожа на Елену Павловну Казаковцеву.
13
На пороге нас встретил невысокий худощавый старик, одетый в синюю шерстяную «олимпийку» и отороченные мехом кожаные тапочки. Лицо его было покрыто сетью маленьких морщин, напоминавших годовые кольца. Во рту он держал дымящуюся папиросу с мундштуком, сложенным в хитрую гармошку.
– Здравствуйте, мы из школы! – представился я.
– Здрасьте! – отозвался Чаругин прокуренным голосом и протянул руку. – Проходите… Заболел я, давление подскочило…
– Может быть, в другой раз? – неуверенно спросил я.
– До другого раза дожить нужно! Проходите! – и он повёл нас в комнату, по дороге с ворчаньем расправив синие школьные брюки, неряшливо брошенные на спинку стула. В квартире пахло сдобным тестом и лекарствами.
– Как вас величать? – поинтересовался Чаругин.
– Меня – Андреем Михайловичем.
– А молодого человека?
– Алексеем, – ответил я за смущённого Ивченко.
– А меня – Иваном Георгиевичем, – с каким-то неудовольствием по отношению к самому себе доложил старик. – Садитесь.
Над диваном, застеленным клетчатым пледом, висел давнишний портрет Верховного главнокомандующего Сталина и увеличенная фотография в металлической рамке: молодой капитан с грудью, покрытой крупной чешуёй наград, и широколицая девушка в платье с острыми приподнятыми плечами. Ивченко остановился перед снимком и, кажется, начал пересчитывать награды.
– Не считай! – махнул рукой Чаругин. – Теперь ещё больше, хоть на спину вешай: одних юбилеев сколько перепраздновали! Две медали, правда, сын в малолетстве потерял… Это теперь мы над железками трясёмся, а раньше, как в войну с пацанами играть, так: «Папаня, дай медальку!..» Но книжки наградные все, как одну, сохранил…
Чаругин, потирая затылок, отправился на кухню, пообещав «сообразить чайку». Как только он вышел, шеф-координатор показал глазами на портрет Верховного главнокомандующего и вопросительно посмотрел на меня. Я молча пожал плечами, мол, у каждого поколения свои заблуждения и не нам их судить.
Иван Георгиевич вернулся с чашками и тарелочкой домашнего печенья, а следом за ним с чайником в руках вошла та самая широколицая девушка, конечно очень постаревшая и поседевшая.
– А вы что, Андрей Михайлович, извиняюсь, преподаёте? – дождавшись, когда жена разольёт чай и выйдет, поинтересовался Чаругин. – Не литературу?
– Литературу и русский язык, – ответил я, потом хотел добавить о журналистике, но решил не отдаляться от темы. – А что?
– Да ничего хорошего!
– Почему?
– А потому, что математикой уважению к Родине не научишь, математика какой до семнадцатого года была, такой и осталась. А вот история и литература – дело другого рода! Плохо вы ребят учите: никакого уважения не стало, а к старикам и подавно. Мой внук придёт из школы и бабке докладывает: «Васька сказал… Васька спросил… Васька поставил…» А Васька – это Василий Дмитриевич, у которого ещё и сын мой учился! Что ж вы творите, ребята? – поглядев на Ивченко, спросил Иван Георгиевич. – Я читал, в Америке учителя бокс изучают, чтобы от детишек отбиваться! Скоро, значит, и у нас будет?
– Не будет! – растерянно замотал головой Лёша.
– Не бу-дет, – насмешливо повторил Чаругин. – Разболтался народ, развинтился, в особенности молодёжь. Да и старики иной раз… Вот мой сосед, – Иван Георгиевич кивнул на потолок. – Протез пристегнул, инвалидскую книжку в карман и вперёд – куда не зарастёт народная тропа – за водкой, без очереди… Стыд и позор…
В комнату заглянула жена Чаругина и, строго поджав губы, поглядела на Ивана Георгиевича, а потом предложила принести ещё печенья. Мы поблагодарили и отказались, а Чаругин, чтобы скрыть неловкость, обжигая пальцы, заглянул в чайник, помолчал и сказал виноватым голосом:
– Ладно… Скрипеть больше не буду. Вон уже и моя половина глазами буравит: люди, мол, за делом пришли, а ты собачишься! А я, может, потому и собачусь, что вину чую… Рукописи-то у меня нет…
– Отдали кому-нибудь? – спросил Ивченко огорчённо.
– Никому я ничего не отдаю! Мне эти воспоминания товарищ фронтовой завещал, говорил, ещё попросят… Как в воду глядел! Я-то с батальоном всего неделю провоевал, а он почти всю войну прошёл… Совестно и перед покойным, и перед вами. Не уберёг!
Нужно было спрашивать, куда же исчезли папки с мемуарами краснопролетарских ополченцев, но мы молчали, и было слышно, как за стеной повышенной звуконепроницаемости миллионер Челентано поёт о трудной жизни простого итальянского труженика.
– А где же они? – шеф-координатор начал нервно накручивать волосы на палец.
– Где… Там… – Иван Георгиевич безнадёжно махнул рукой. – В макулатуре. Пяти килограммов внучику на зарубежный детектив не хватило, а воспоминания восемь потянули, так он мне три бумажечки сдачи принёс!
– А где это? – заволновался Лёша. – Если объяснить, они отдадут!
– Да я уж и сам туда бегал, – ответил Чаругин. – Поздно. Он ведь ещё на прошлой неделе папки отволок. Мне уже из издательства звонили – спохватились работнички!
В комнату снова тихонько зашла хозяйка, сняла со стула заложенные очками «Воспоминания и размышления» маршала Жукова, тяжело села и скорбно сложила на животе руки.
– Иван Георгиевич, – спросил я на всякий случай, – вы не помните: было в воспоминаниях что-нибудь о Николае Пустыреве, это молодой писатель, он пропал без вести в октябре сорок первого…