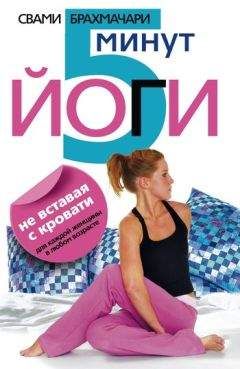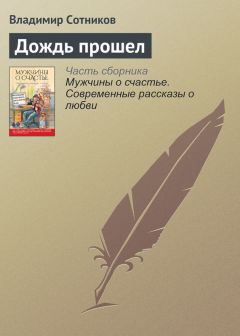Марина Степнова - Женщины Лазаря
Прости.
Маруся встала и, поеживаясь, побрела на кухню, щелкая по дороге выключателями, — в Энске не было никакого затемнения, а из Москвы они уезжали уже при полной светомаскировке, и Маруся, пока машина не свернула за угол, все оборачивалась, все искала глазами родные окна, которые собственноручно перечеркнула бумажными крестами. Прощалась.
На кухне было пусто, тихо и страшно. И так же, как Маруся боялась всех этих чужих вещей, так и они боялись ее незнакомых рук, вздрагивали, сторонились, норовили, как живые, уползти в дальний угол, в спасительную тень. С каждой чашкой приходилось разговаривать, гладить ее по дрожащему боку, словно настрадавшегося брошенного щенка, приручать, и Маруся помешивала, переставляла, бормоча, прихватывала полотенцем и прикрывала осторожной крышкой. Это были уже никакие не молитвы, а чистое колдовство, знакомое каждой женщине, уходящее корнями в невозможную древность, когда даже Бога еще не было, и не было Слова, а существовала только чистая, ничем не замутненная любовь. И Маруся колдовала изо всех сил, прислушиваясь, не щелкнет ли в прихожей дверь, ей казалось, что только возвращение мужа вернет всему смысл и порядок, разгонит страхи, укротит плотную, почти кубическую тьму. Квартире нужен был хозяин, пусть и такой бестолковый, как ее Сережа, но он все не приходил и не приходил, и, в конце концов, Марусе пришлось сдаться, выключить плиту и всю ночь просидеть у непроницаемого окна в извечной, ожидающей женской позе — всегда одной и той же, сколько бы веков ни прошло.
Квартира тоже затаилась и только иногда тихо вздыхала, словно приспосабливалась к Марусе, да изредка что-то снаружи садилось на подоконник, скребло отчетливыми коготками оглушительную ночную жесть, и Маруся уговаривала себя, что это голуби, обычные голуби, но никакие это были не голуби, конечно, и когда в прихожей тихой тенью промелькнула большая несуществующая кошка, Маруся не выдержала и заплакала.
Потому что у нее больше не было сил.
Ни Чалдонов, вернувшийся только на рассвете, небритый, почти пьяный от усталости, ни даже Линдт ничего не заметили. Иногда Марусе казалось, что они, поглощенные своими научными игрушками, не заметили даже войну, так что все четыре года страхов, сводок и бесконечных очередей легли исключительно на ее плечи. Линдту дали отличную комнату неподалеку, но, сколько Маруся ни уговаривала его перебраться к ним, он не соглашался, упрямился, и Маруся с грустью думала, что вот и Лесик совсем вырос, и больше она ему не нужна, а с ним было бы так легко; ладно — не легко, а намного легче, он бы усмирил любых призраков, плевать ему было на призраков, он ни во что не верил, ее Лесик, и это веселое бесстрашное неверие, которое обычно так огорчало Марусю, сейчас было бы в самый раз.
Впрочем, иногда Линдт все-таки оставался у них ночевать — и тогда все было почти по-прежнему, веселые вечера за веселым столом, и Маруся не видела никаких кошек, а квартира казалась ей теплой, мирной, залитой светом — точно такой, какой она и была для всех, кроме нее. Кроме нее. Но наутро Линдт уходил, быстро поцеловав Марусе руку и на ходу доспоривая о чем-то с Чалдоновым, на их совести было сто двадцать миллионов снарядов и мин, пятнадцать тысяч семьсот девяносто семь самолетов, неисчислимое количество смертей, а на Марусиной совести ничего не было, но они спешили вниз по лестнице, пересмеиваясь, как мальчишки, а она стояла на пороге, глядя им вслед, и за спиной ее настороженно молчал огромный страшный одинокий день, который невозможно было заполнить никакими хлопотами по хозяйству.
Между тем Энск угрожающе разбухал, волну за волной принимая эвакуированных, прибывающих эшелонами, заводами, целыми отраслями. Только с июля по ноябрь сорок первого в Энск перебросили пятьдесят крупных предприятий — а всего в стране было эвакуировано около девяти миллионов людей. Вы только вдумайтесь — около девяти миллионов! В городе стало тесно от десятков тысяч приезжих, перепуганных, оторванных от дома, шалых от усталости и той дикой, никому не нужной, отчаянной свободы, которую принесла с собой война. Жилья катастрофически не хватало, всех уплотняли, там, где прежде жили четверо, запросто находилось место еще десятерым.
Маруся поспешила в горком — четыре комнаты на двоих, товарищ первый секретарь, вам не кажется, что это не совсем справедливо? Первый даже не дослушал, махнул на нее единственной рукой, вторая с Гражданской гнила где-то под Верхнеудинском, да не гнила уж, поди — только косточки белые и остались. Идите к чертовой матери, голубушка, со своими закидонами, в стране война, а вы сами не знаете, чего хотите. Комнат ей много, понимаешь. Вам много, а академику в самый раз. В общем, товарищу Чалдонову я мешать не стану и вам не посоветую, и плевать мне, что вы его жена, да мы в свое время таких жен!..
Конец фразы, впрочем, вонзился в уже закрывшуюся дверь. И что это я, бормотала Маруся, выходя на горкомовское крыльцо, оснащенное вместо колонн двумя заиндевелыми часовыми, и что это со мной, в жизни ни у кого не спрашивала ни совета, ни разрешения, а тут — на тебе, выскочила, ах, батюшка-барин, дозвольте доброе дело сделать да в плечико вас поцеловать. Неужто правда — постарела? Ну уж дудки.
Маруся быстро, ловко, совершенно по-прежнему, закуталась в платок — такой нежно-серый, что неясно было, где заканчивается пух, а где начинается небо, — и торопливо, легко поспешила по улице, оставляя на тротуаре звездчатые следы крепко подбитых каблуков. Вот погодите, сейчас я вам… — лихорадочно думала она, но сама не понимала — кто они, эти вы, и что она может сделать. Господи, что?
Маруся свернула, потом еще раз и вдруг поняла, что понятия не имеет, где находится. Это был еще не освоенный и не обжитый ею район Энска. Какая-то длинная, совершенно пустая, оцепенелая улица, вдоль которой медленно плыло кровавое, как будто даже густое на вид солнце. И ни дымка, ни стука, ни шевеления… На секунду Марусе показалось, будто все уже умерли и осталась только она одна — и теперь придется вечно брести по этому безмолвному обескровленному городу без малейшей надежды на помощь и спасение.
Было пронзительно холодно и тихо, только взвизгивал под ногами чистейший, никем не запятнанный снег, так что Маруся не сразу осознала, что снег вскрикивает не совсем в такт ее шагам, как будто ребенок, который продолжает плакать, даже когда его уже оставили в покое, даже когда уже не больно… Она остановилась, и снег тут же замолчал, а вот детский голосок, наоборот, стал отчетливее. Свихнулась, с каким-то веселым облегчением подумала Маруся и, сняв варежку, изо всех сил ущипнула себя возле запястья — в то чувствительное место, под которым жила нежная, упругая бусина пульса.