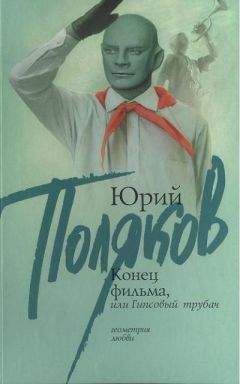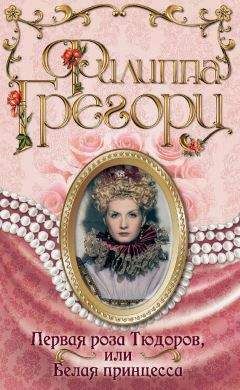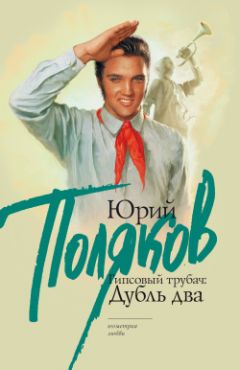Юрий Поляков - Гипсовый трубач
— Невеста! Ящика? — изумился автор «Полыньи счастья».
— Да. Здесь и такое бывает… А вон, взгляните, старушка в кимоно. Спит. Народная артистка Саблезубова. Говорят, была любовницей самого Берии. Не завидую я Лаврентию Павловичу. А дальше, под пальмой, — внебрачная сноха Блока. Та еще штучка! Вы читали ее мемуары «Трепет незабываемого»?
— Кажется, да… — смутился Кокотов: из этих лихих воспоминаний он позаимствовал для «Лабиринтов страсти» скрупулезное описание артистических свальных оргий.
— С ней за столом — комсомольский поэт Верлен Бездынько, любимый ученик Асеева и Хаита. Помните:
Она сняла гимнастерку.
А я отстегнул парабеллум.
Она закурила махорку.
А я накрыл ее телом.
— Верлен? Странное имя…
— Нормальное революционное имя. Великий Революционер Ленин. Сокращенно — Верлен. Это еще что! У нас в кинофонде был бухгалтер Тромарлен Самуилович.
— Не может быть!
— Точно! Троцкий-Маркс-Ленин. Он это тщательно скрывал, и никто не догадывался, думали — редкое еврейское имя. Но меня-то не проведешь. Тромарлен мне всегда самые большие командировочные выписывал — за молчание…
— Я не об этом.
— А о чем?
— Я про Ласунскую. — Кокотов снова посмотрел на старуху в тюрбане.
— Да, мой друг, самая красивая женщина советского кино. «Норма жизни»! Стеша Колоскова. Из-за любви к ней застрелился генерал Битюков.
— Боже, Вера Ласунская! — ахнул Кокотов. — А ведь какая была!..
— А что ж вы хотите?! Старость, как справедливо заметил Сен-Жон Перс, — это сарказм Бога.
— Но ведь ей сейчас…
— Ну и что? К столетию Пушкина в степях отыскали ту самую калмычку… Помните, «Прощай, любезная калмычка…»?
— Шутите?
— Факт. Почитайте Бартенева!
— Да я вроде читал…
— Вроде — у Мавроди!
Соавторы подошли к четырехместному столу у колонны. Там сидел миниатюрный старичок, похожий на внезапно состарившегося подростка. В отличие от своих соратников по закату жизни одет он был вполне современно: клетчатый пиджак модной расцветки, сорочка с высоким воротником, вишневый шейный платок… Однако при внимательном взгляде становилось ясно, что пиджаку с пуговицами, обтянутыми вытершимся бархатом, по крайней мере полвека. Просто мода, как известно, ходит по кругу, подобно ослу, привязанному к колышку.
Ел старичок не казенной алюминиевой, а своей собственной ложкой — массивной, серебряной, с кудрявой монограммой на ручке. Рядом лежал сафьяновый футляр-складень, из отделений которого торчали еще вилка и нож.
— А мы к вам! — радостно сообщил Жарынин. — Примете?
— Конечно! — ответил старичок, звонко чеканя «ч». — Счастлив видеть! Милости прошу, Дмитрий Антонович!
Голос у него оказался тоже какой-то полувзрослый.
— Разрешите представить вам моего друга и соавтора: Андрей Львович Кокотов, прозаик прустовской школы! — со сладкой издевкой сообщил режиссер.
У прозаика от обиды во рту возник медный привкус.
— Пруста, к сожалению, не застал. А вот с Кокто встречался… — старичок, наслаждаясь созвучием имен, лукаво глянул на Кокотова. — Позвольте отрекомендоваться: Ян Казимирович Болтянский.
— Ну что ж вы так скромно, Ян Казимирович? — попенял Жарынин. — Народ должен знать своих героев. Знакомьтесь, коллега: перед вами легендарный Иван Болт — любимый фельетонист Сталина. Мог снять с работы любого наркома с помощью одной публикации в «Правде». Как говорится, утром — в газете, вечером — в решетчатой карете…
— Вы преувеличиваете! — зарделся польщенный ветеран острого пера.
— Ну как же, как же… — вполне искренне отозвался Андрей Львович, вспомнив, как покойная Светлана Егоровна, достав из почтового ящика свежую «Правду», первым делом искала новый фельетон знаменитого Болта.
— Как вам мой платок? — поинтересовался старичок, вытянув шею, чтобы лучше было видно.
— Париж? — уточнил режиссер.
— Да, галерея Лафайет. Вы, Дмитрий Антонович, знаете толк в дорогих вещах! Это мне правнучек подарил. Кеша. Он скоро сюда приедет. Ну что ж вы стоите? Присаживайтесь!
— Спасибо! — Кокотов взялся за стул.
— Нет-нет! — забеспокоился старичок. — Сюда нельзя. Здесь сидит Жуков-Хаит. К тому же он теперь Жуков — поэтому лучше сюда.
Наконец соавторы расселись. Жарынин в ожидании официантки взял кусочек черного хлеба, намазал горчицей и посолил. Писатель, которому после перцовки страшно хотелось есть, сделал то же самое. Ветеран подвинул к ним банку из-под китайского чая с каким-то зеленым порошком:
— Угощайтесь!
— Что это? — спросил осторожный литератор.
— Как что? Морская капуста!
Режиссер вежливо подцепил немного зеленого порошка на кончик ножа и стряхнул на свой бутерброд. Кокотов, поблагодарив, оказался.
— Напрасно, Андрей Львович! Как вы думаете, сколько мне лет?
— Затрудняюсь, — пожал плечами писатель, отметив про себя, что старичок-то запомнил его имя-отчество с первого раза.
— Девяносто восемь! А как я выгляжу? — Болтянский для наглядности обнажил зубные протезы — бесплатные, судя по неестественной белизне.
— Потрясающе!
— Больше семидесяти двух вам не дашь! — подтвердил режиссер.
— А все благодаря ей! — Старичок зачерпнул ложкой капусты и отправил в рот. — Сорок лет я без нее не сажусь за стол. Она моя спасительница! В перестройку совсем из аптек исчезла. Так я, поверите ли, талоны на водку за нее отдавал — мне со всей Москвы несли!
— Только капуста? — уточнил Жарынин.
— Нет, еще, конечно, секс! Секс и морская капуста делают человека практически бессмертным! Мы еще с вами выпьем на моем столетии!
— Секс? — Режиссер многозначительно задрал брови. — И кто же эта счастливица?
— Есть вопросы, на которые мужчина не отвечает! — потупился Ян Казимирович, и в его сморщенном личике появилось выражение блудливой суровости.
Наконец к столику подкатила свою тележку официантка — довольно еще молодая женщина с измученным лицом и золотыми зубами.
— Витаминный салат и щи, сосиски, гречка — объявила она. — Вы сегодня без заказа.
— Щи да каша — пища наша! — оживился Жарынин. — Ты чего такая грустная, Татьяна?
— А чего радоваться, Дмитрий Антонович? Уволят нас всех скоро. На что своих кормить буду?
— Так уж и уволят?
— А вы разве ничего не знаете? Нас же продали.
— Кому?
— Ибрагимбыкову.
— Так уж и продали?
— Говорят, продали. А вам разве не сказали?
— Слышал кое-что…