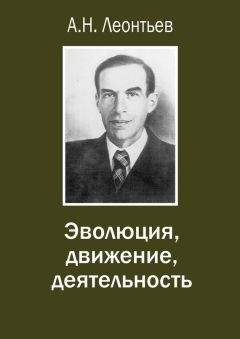Алексей Поляринов - Пейзаж с падением Икара
— Нет. Между близорукостью и слепотой — пропасть. Слепоты я боюсь больше, чем смерти. А близорукость воспринимаю, как дар.
— Но ты ведь не будешь спорить, что плохое зрение — это все-таки недостаток?
— Все относительно. И недостаток существует только один — недостаток рекламы.
— Не пытайся выглядеть циничным. Я тебя хорошо знаю.
— Неужели? И какой мой любимый цвет?
— Ты любишь все цвета.
— Ладно. Ты победила.
Мимо нас с жутким воем, разбрасывая синие отблески по окнам домов, проехала карета скорой помощи. Марина обернулась, провожая ее взглядом.
— Всегда боюсь их. Мурррашки по коже от этого звука. Он похож на рыдание ребенка, которому нельзя помочь.
— Ты же работаешь в больнице.
— Вот именно. Поэтому и не люблю этот звук.
«Рыдание ребенка» постепенно утонуло в окрестностях, но мы еще какое-то время шли молча, угнетенные синим мерцанием. Марина все оглядывалась (словно ожидая, что карета поедет обратно), не заметила бордюра, оступилась и сломала каблук.
— Ой… что же делать?
— Сломай второй. Так будет симметричней.
— Нет-нет, это мои любимые туфли. Их надо починить.
Она разглядывала место слома, а я разглядывал ее (пульсирующая жилка на смуглой шее, и тонкий белый шрам на щеке, совсем не портящий лица… странно — мы больше года знакомы, а я ни разу не спросил, откуда он взялся? Может быть, это как раз и связано со страхом перед сиреной?).
— Как же я теперь до дома дойду? На одном-то каблуке?
Мы переглянулись. Я присел и стал расшнуровывать левый ботинок.
— Что ты делаешь?
Я стянул ботинок и носок, обнажив молочно-белую ступню и (к своему стыду) грязные ногти.
— Теперь ты не так бросаешься в глаза.
— Зачем ты сделал это?
— Отвлекаю огонь на себя. Идем, — и предложил ей локоть.
Кто-то тихо хихикал в ладонь, кто-то — во все горло, но никого не оставила равнодушным наша странная парочка: хромая барышня на одном каблуке и еще более хромой кавалер в одном ботинке (и со вторым под мышкой). Я шел, по-клоунски переваливаясь с ноги на ногу, и Марина, смеясь, стала подыгрывать мне. Мы так увлеклись этой шарадой, что перестали, только когда небо стало светлеть.
На пути нам встретилась змея; небольшой черный уж с оранжевой головой пересекал дорогу в желтом свете фонаря.
— А-а! Гадюка!
— Не бойся. Это не гадюка, это уж. Змей вообще не надо бояться. Тем более гадюк. Они — добрые существа.
— Это гадюки-то добрые?
— А ты знаешь, что гадюки — самые привязчивые существа в мире?
— Неужели?
— Да, — я задумался, глядя на воду. Фонари на дальнем берегу отбрасывали зыбкие иглы света на речную рябь. — В пустыне Атакама обитают так называемые песчаные гадюки. Когда самец встречается с самкой, они сплетаются так крепко, что почти душат друг друга, но это еще не брачные игры — они знакомятся. В процессе знакомства они кусают друг друга — обмениваются ядами — и впадают в кому. Но пока они безвольны, пустыня поглощает их; ветер меняет песчаный ландшафт. Когда гадюки просыпаются, то находятся уже далеко друг от друга, глубоко в песках. И всю оставшуюся жизнь они просеивают песок. Ведь яд партнера теперь в крови, они — одно целое. Собственно, песчаные гадюки нападают на людей только потому, что те стоят на песке, который им предстоит перерыть.
— Как красиво.
— Может быть. Но ни одна пара гадюк еще не смогла воссоединиться.
— Как? Почему?
— Пустыня. Песок движется. Ветер разносит его, разбрасывает. Барханы принимают новые формы. Но гадюки чувствуют друг друга, они, наверно, даже могут общаться, ведь яд в их крови — и есть привязанность.
После долгого спора я признался, что это лишь красивая легенда, но добавил, что песчаные гадюки действительно зарываются в песок, как будто ищут что-то важное.
Теперь я чувствовал себя уверенно, хотел впечатлять — подошел к витрине магазина, приложил к стеклу ладони, чтобы блики фонарей не мешали смотреть внутрь. Затем стал долбить кулаком в дверь.
— Что ты делаешь? Не надо.
Я подмигнул и стукнул еще раз — ботинком, который держал в руке. Помещение магазина озарилось тусклым светом — это открылась дверь где-то внутри. Квадрат желтого света из дверного проема засверкал на кафеле, и меж столов, изгибаясь на неровностях, задвигалась тень. Дверь открыл седобородый старичок, облаченный в халат, подол которого тащился за ним по полу, точно шлейф невесты, и, когда мы вошли вслед за ним, то боялись наступить на этот «шлейф».
— Привет, Егорыч.
— Какого черта, Андрей? — бормотал бородач. — Я так хорошо спал.
— Плачу в десять раз больше, — сказал я. Старик задумался, считая, потом махнул рукой.
— Ладно.
Мы приблизились к прилавку, и Егорыч зажег лампы. Прилавок озарился дрожащим неоновым светом, и, прищурившись, мы увидели… мороженое.
— Выбирайте и валите. Я спать хочу!
— Мне три шарика шоколадного. А тебе?
— То же.
— Два рожка — по три шоколадных шарика, — сказал Егорыч. — Хорошо, черт возьми.
— Нет, три рожка, — сказал я.
— Да хоть тридцать три! — бородач потянулся за вафлями. — Ты все равно заплатишь десять раз.
Когда рожки были готовы, я взял один и протянул старику.
— А это тебе, Егорыч. Спасибо, что впустил.
Тот нахмурился.
— По мне похоже, что я хочу мороженого?
— А разве не хочешь? Все любят мороженое.
— Все, кроме меня.
— А дети у тебя есть?
— Да, дочка.
— Как ее зовут?
— Лида.
— Значит, это — для Лиды.
— Да, — усмехнулся он, провожая нас к выходу, — так ей и скажу: «Это тебе от психа в одном ботинке, что ворвался ночью в нашу лавочку».
Восток светлел. Мы недолго посидели на скамейке, в парке у прудика, глядя на уток.
В восемь утра у Марины начиналась смена, я проводил ее до больницы, мы попрощались (да-да, сцена с поцелуем), и я ушел, чувствуя приятное тепло под ребрами.
Я шагал по улице, глупо улыбаясь и здороваясь со всеми подряд. У меня было такое хорошее настроение, что я высыпал всю мелочь из кармана в грязную ладонь какого-то бродяги. Идти домой не хотелось, поэтому я отправился в парк развлечений, где несколько раз прокатился на колесе обозрения, по-детски радуясь той высоте и ощущению полета, которое давал аттракцион. Потом я купил у Егорыча еще рожок ванильного и долго в забытье сидел на скамейке, и очнулся, лишь когда растаявшее мороженое потекло по руке.
Наступило раннее утро понедельника — в парке не было ни души. Только одинокий полицейский шагал по аллее. Проходя мимо, он поглядел на мои ноги и спросил:
— Вас что — ограбили?
Только тут до меня дошло, что я потерял левый ботинок.
«Что ж, — подумал я, — раз один ботинок исчез, то хранить второй не имеет смыла». Поэтому я просто снял его и бросил в урну; следом отправились носки. Полицейский изумленно смотрел на меня. Я подмигнул ему — и пошел домой, ощущая ступнями холодные, влажные камни брусчатки и удивляясь, что раньше никогда не ходил босиком по улице.
Эта ночь — самая насыщенная ночь в моей жизни — уже закончилась, и, приближаясь к своему дому, я старался удержать в голове всё: запахи, звуки, отблески, — стремясь с максимальной точностью запечатлеть их в памяти: так паломник, покидая святую землю, забирает с собой ее горсть, дабы всегда иметь возможность вернуться.
Глава 6.
Лука
Честно говоря, мои попытки восстановить генеалогическое древо Ликеевых с каждым днем выглядели все более жалкими. Я так много времени провел среди архивных стеллажей, что приобрел иммунитет к библиотечной пыли. Я просмотрел сотни рассекреченных отчетов ЧК за тридцать девятый и сороковой годы. Я даже съездил за Урал, в детский приют, в котором вырос Лжедмитрий (ах да, он же просил не называть его так). Но мое отчаянное рвение не дало результатов: да, я выяснил, что в спец-интернат №1672 действительно направляли детей, родившихся у полит-заключенных. Да, я проследил несколько ниточек, ведущих в один из лагерей. И — да — именно в этом лагере содержалась Елена Дмитриевна Ликеева, дочь художника. Я даже узнал, что в сороковом году ее с полевых работ перевели в больницу: и этот странный перевод позволяет предположить беременность (хотя все данные, включая медицинскую карту, извлечены из дела). Но все мои находки не дотягивали до того, чтобы называться доказательствами — это были лишь догадки.
Сам Лжедмитрий старался быть максимально тактичным — он не приставал ко мне с вопросами. Я знал, что он следит за каждым моим шагом, но слежка не была слишком навязчивой, поэтому я не обижался.
Мы даже подружились — на почве любви к теннису. В одной из бесед он довольно грубо высказался об игре Марии Шараповой, я вступился за нее, разразился спор, и в итоге мы решили выяснить отношения на корте. Сама идея играть против старика казалась мне смехотворной, и я готовился к блицкригу, но… Его первая подача была такой тяжелой, что у меня заныло предплечье. Второй подачей он сделал эйс.