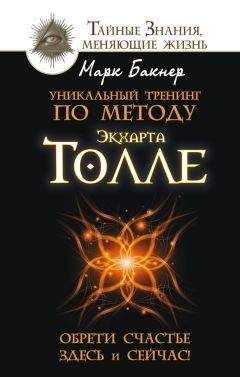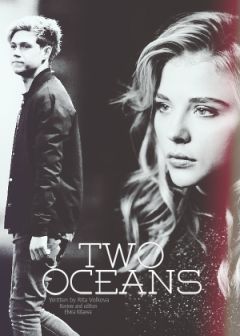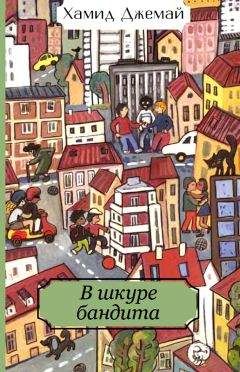Гилберт Адэр - Ключ от башни
Я смотрел на все это, и у меня начало покалывать кожу на голове. Мой лоб был мокр от пота, а ладони казались выбеленными.
— Гай, ты знаешь, что ты бледен как смерть? — сказала Беа. — Плечо?
— Нет.
— Саша?
— Нет… не знаю…
— Не мучь себя, ты же защищался. Я все видела. Ты не собирался причинить ему вред.
— Нет, нет, нет. Это… это совсем другое.
— Тогда — что? Ну, что с тобой?
— Говорю же: не знаю. То есть это ведь невозможно… и все же…
— Все же — что?
— Ну, просто… Просто у меня такое ощущение, будто я уже бывал здесь раньше. Здесь, в этой комнате.
Наступило молчание. Беа впилась в меня глазами, но, казалось, не знала, что сказать.
Наконец, погасив лампочку над головой и включив бра, она негромко пробормотала:
— Да, ты прав.
— То есть как?
— Это действительно невозможно.
Я все еще стоял, как окаменелый, обыстуканенный. Беа снова заговорила:
— Нам нельзя терять времени. Надо найти картину и убраться отсюда до того, как он… — она посмотрела вниз на бедного Сашу, — до того, как он придет в себя.
— Ты знаешь, где она?
— Свернутая, в нижнем ящике комода. Он всегда прятал ее там. Ты не откроешь?
Я подергал ящик.
— Он заперт, — сказал я тупо.
Она покачала головой в притворном недоумении.
— Запереть ящик в квартире, где он живет один! — Она принялась хлопать по многочисленным карманам своего костюма, словно обыскивая себя. — Слава богу, я решила, что будет разумно заказать собственный ключ.
Беа стояла перед комодом сбоку от канделябра. Ни одна из тюльпанных чашечек не горела, но теперь горело бра над ним, отбрасывая свет куда более яркий, чем можно было бы ожидать от такого худосочного светильника, на нижнюю половину лица Беа. Я стоял рядом с ней, ожидая, когда она даст мне ключ от ящика комода. Между нами в стене за бра было единственное окно комнаты, не мытое уже много месяцев. Впрочем, за ним все равно было видно только темное, затянутое тучами небо с красной каемкой. За пределами рамы разбивались невидимые волны.
Беа вытащила из кармана жакета маленький кошелечек или футляр из какого-то коричневого меха.
— Вот он. Попробуй отпереть нижний ящик. Я убеждена, что холст там.
Она правой рукой протянула мне кошелечек или футляр.
По его форме, размерам и асимметричным выпуклостям и без слов Беа было ясно, что внутри лежит ключ.
Я замер.
Внезапно все стало понятно.
— «La Clé de Vair» — подделка!
Я не дал Беа возможности ответить мне, а вынул ключ из кошелечка — самый обыкновенный латунный ключ, — подошел к комоду, отпер нижний ящик, выдвинул его и увидел свернутый рулоном холст, как и предсказала Беа. Я вынул его (не могу сказать, что в эти минуты делала Беа, так как от ужаса не решался взглянуть в ее сторону), подошел к мольберту и закрепил на нем картину. И уставился на нее. Она была зеркальным отражением — только спроецированным в прошлое на триста лет, — точной нашей с Беа позы чуть раньше. Обернувшись к Беа, я нейтральным тоном, который только-только не позволял моему возбуждению вырваться наружу, изложил ей правду, которую узнал только сейчас.
— «La Clé de Vair» — подделка. Картина не была написана Жоржем де Ла Туром. Она не была написана в семнадцатом веке. Она была написана здесь и не так уж давно. Комната на картине — эта комната. Свет на картине… — Я указал на мягко выписанный луч света на полотне, такой типичный для произведений Ла Тура, — …это свет вот этой лампы… — и я указал на бра. — Остров, обрамленный окном… — я указал на единственную деталь, которую не сумел толком разглядеть на черно-белой репродукции тогда на вилле и которая на картине оказалась окном, — …это остров, который я видел, когда мы ехали по береговому шоссе. Башня… — я снова указал на полотно, — …это та башня, которую я заметил перед тем, как мы свернули с берегового шоссе. А женщина на картине… ты эта женщина, ты! Ты позировала художнику, ведь так?
Беа не ответила.
— А это, — я покачал перед ней невзрачной металлической трубочкой, — это ключ. La Clé de La Tour[85].
He было никаких признаков, что Беа воспринимает мои слова. Однако теперь это не имело значения, поскольку я был неколебимо убежден в их верности. Но я твердо решил, что первым не заговорю, и пока мы стояли лицом к лицу, мой взгляд обратился на закрытую дверь в глубине комнаты. Мы продолжали молчать, и я пошел открыть эту дверь. Она вела в студию Саши. Освещаемая широким полукруглым окном, охватывающим океан и небо, разделенные вдали лунно-пятнистым горизонтом, эта вторая комната вообще обходилась без мебели. В центре стоял еще один, тоже пустой, мольберт, но меня привлек штабель холстов у стены за ним. Даже с такого расстояния было понятно, что верхнее из них было явно рассчитано на то, чтобы сразу бросаться в глаза. Частично заслоненный тремя тонкими ножками мольберта (две задние вызывающе раздвинуты, как у Генриха VIII) гигантский синий кочан цветной капусты господствовал над ночным огородом под желтой, исполненной угрозы, луной. По-своему это был достаточно поражающий образ и одновременно жалкое пресное клише — с таким жутким старанием были выписаны извилины и выпуклости кочана в вязких аквамариновых тонах.
Я встал на колени рядом с холстами и под перестук толстых деревянных подрамников перебирал их, точно банковский кассир — пачку старых стофунтовых банкнот. Их оказалось шесть, и все были написаны кем-то одним, кем-то с очень приличной техникой, но, как мне сразу стало ясно, рабски безнадежно обязанным Дали безобразно-маслянистой текстурой своих картин, а Маргитту их содержанием — вернее, набором мишурных вычуров и избитостей изношенного до дыр сюрреализма, с помощью которых художник тщетно пытался замаскировать полное отсутствие истинного, личного содержания. Пять, скрытые под цветной капустой, включали поясной портрет пожилого мужчины в цилиндре, чье лицо было замаскировано куском яичницы; револьвер, палящий по горлицам; двугорбое животное с головами по обоим концам туловища с милым неологизмом «палиндромадер» внизу; картина распятия, собственный холст которой был пригвожден к кресту, и фальшиво выписанная кровь сочилась из трех дырок под тремя гвоздями; и потусторонний небесный пейзаж: пушистая гряда облаков, которые при ближайшем рассмотрении оказались профилями четырех президентов с Маунт-Рашмор.
Я вернул холсты на место и еще минуту-другую оставался на коленях. Затем мои глаза снова — и на этот раз уже более осознанно — скользнули по комнате в поисках дальнейших подтверждений, и я заметил десятка два набросков углем, которые вкривь и вкось были пришпилены к стене в другом углу.
Я пошел туда, чтобы рассмотреть их. Некоторые были портретами а-ля Модильяни, другие — искусными заимствованиями у Матисса, Сутина и Боннара. Еще имелось что-то вроде не слишком уверенного и преждевременно оставленного покушения на композицию «Трех граций» в манере Энгра — три модных, взявшихся за руки ню с едва набросанными, но явно одинаковыми лицами и фигурами. Ну а остальные рисунки, составлявшие больше половины общего числа, все были эскизами, вплоть до деталей одежды той эпохи, женской фигуры «La Clé de Vair». И не могло быть ни малейшего сомнения, что каждая женщина — Модильяни, Матисса, Сутина и Боннара, все три голые тройняшки Энгра, а также (что стало для меня до крика очевидным) и Ла Тура — была Беа.
Я вернулся в первую комнату. Беа стояла в той же позе. Она, казалось, ждала, чтобы я задал ей еще раз тот же вопрос. Но была ее очередь говорить, и в конце концов она нарушила свое молчание.
— Да, ты прав, — сказала она, не моргнув и глазом. — Это подделка.
— Так почему ты не расскажешь мне подробнее?
Она взглянула на меня, точно проверяя, действительно ли я хочу узнать правду, и что-то — или тень чего-то — быстро скользнуло по ее лицу, что-то грубое, и жестокое, и расчетливое, — никогда раньше я не видел у нее такого выражения.
— Ее написал — я знаю, ты и сам догадался — Саша. Саша художник… то есть он был художником, прежде чем стал партнером Жан-Марка. Ему ни разу не удалось добиться успеха, ни разу, никогда. Полагаю, ты посмотрел его работы, так что мне незачем объяснять почему. Он обладает редкими способностями, но то, что он пишет — а это все, что он может, — безнадежно устарело. Хуже того, его картины всегда напоминают чьи-то еще — Дали, или Макса Эрнста, или Магритта. — Она обвела взглядом грязную, нестерпимо гнетущую комнату, где мы стояли, — по сути, монашескую келью. — Боги сыграли с Сашей на редкость бессердечную штуку. Они дали ему руки гения, но словно чьи-то чужие, как в фильмах ужасов. В нем нет ни искры индивидуальности или оригинальности. Он умеет писать, но понятия не имеет, что писать или, точнее, зачем вообще писать. А самое ужасное, что он лучше кого бы то ни было знает, как тривиален и бесполезен его талант. Он словно слепорожденный, который внезапно обнаруживает, что способен вообразить, способен представить себе, что значит видеть.