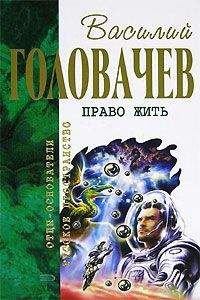Уильям Кеннеди - Железный бурьян
Росскам извлек из-под рубашки кошелек на кожаном ремешке. Отслоил от рулончика пять долларовых бумажек, дважды пересчитал и положил в протянутую руку Френсиса, тут же повернувшуюся для приема ладонью к небу. Потом добавил семьдесят пять центов.
— Бродяга есть бродяга, — сказал Росскам. — Больше бродяг не беру.
— Благодарю тебя, — сказал Френсис, пряча деньги в карман.
— Не нравишься ты мне, — сказал Росскам.
— А ты мне даже понравился, — сказал Френсис. — Да и я не так уж плох, когда узнаешь поближе.
Он соскочил с тележки и помахал Росскаму, а тот, не сказав ни слова и не оглянувшись, уехал на своей тележке, наполовину загруженной старьем и разгрузившейся от теней.
Френсис шел к дому, хромая сильнее обычного. Нога не болела так уже несколько недель. Терпеть было можно, но подниматься нормально над тротуаром она не желала. Френсис шел очень медленно, и прохожему показалось бы, что он отрывает ногу от тротуара, политого клеем. До дома было полквартала, и сам он не был виден — только серая веранда, — должно быть, его. Френсис остановился при виде немолодой женщины, вышедшей из другого дома. Когда они сошлись, он заговорил:
— Прошу прощения, леди, вы не скажете, где мне купить хорошенькую индейку?
Женщина посмотрела на него сперва с удивлением, потом с ужасом и быстро вернулась по своей дорожке в дом. Френсис смотрел ей вслед с суеверным чувством. Почему, когда он трезвый и в новой рубашке, женщина пугается простого вопроса? Дверь снова открылась, и появился лысый мужчина, босиком, в нижней рубашке и брюках.
— Что ты спросил у моей жены?
— Спросил, не знает ли, где мне купить индейку.
— Зачем?
— Да вот, — сказал Френсис и, умолкнув, повозил ногой по тротуару, — утка моя сдохла.
— Шагай не задерживайся.
— Понял, — сказал Френсис и захромал дальше.
Он окликнул школьников, переходивших улицу:
— Эй, ребята, не знаете, где тут мясная лавка?
— Да у Джерри, — сказал один. — На углу Бродвея и Лоун.
Френсис поблагодарил мальчика, подняв руку; остальные смотрели на него. Когда он двинулся дальше, ребята повернулись и убежали вперед. Мимо дома он прошел, даже не взглянув в ту сторону. Походка стала чуть легче. Надо пройти два квартала до лавки и два обратно. Может, там праздничная скидка. Курицей обойдемся? Нет.
К Лоун-авеню он разошелся, а перед Бродвеем шаг стал и вовсе для него нормальным. Струганый пол в мясном магазине Джерри был необыкновенно чист и посыпан опилками. Белые витрины с наклонным блестящим стеклом предлагали Френсису, единственному посетителю, великолепные печенки, почки, бекон, соблазнительные вырезки и отбивные, прекрасно смолотый колбасный и котлетный фарш.
— Что вам? — спросил мясник в белом фартуке. Волосы у него были такие черные, что лицо казалось беленым.
— Индюшку, — сказал Френсис. — Я хочу хорошую мертвую индюшку.
— Других не держим, — сказал мясник. — Только хороших и мертвых. Большую?
— А какие они — большие?
— Такие большие, что не поверите.
— А вдруг?
— Двенадцать-тринадцать кило.
— И почем такие звери?
— Смотря сколько весит.
— Правильно. Почем кило?
— Девяносто восемь центов.
— Девяносто восемь. Скажем, девяносто. — Он помолчал. — Килограммов на пять найдется?
Мясник скрылся в белой кладовой и вышел, держа в обеих руках по индейке. Взвесил одну, потом другую.
— Эта четыре с половиной, а эта пять шестьсот.
— Нам старшую птицу, — сказал Френсис и, пока мясник заворачивал ее в белый пергамент, выложил на прилавок пять долларов и мелочь. Мясник оставил ему на прилавке двадцать пять центов сдачи.
— Как вообще дела? — спросил Френсис.
— Так себе. Денег у людей нет.
— Деньги есть. Добыть только надо. Вот эта пятерка, что я тебе дал. За день сегодня заработал.
— Если пойду добывать деньги, кто в лавке останется сидеть?
— Да, — сказал Френсис. — Кое-кому приходится только сидеть и ждать. Но сидишь та в чистоте.
— Грязные мясники на рынке не удерживаются.
— Да, мясо чистоту и аккуратность любит. А как же.
— Правильно. Это всем не мешает помнить. Ну, желаю закусить своей мертвой.
Он дошел по Бродвею до салуна Кинга Брейди и оттуда посмотрел вдоль Норт-стрит на сарай Жестянки Уэлта внизу и на место бывшего шлюза — наконец-то при свете дня. На улице появилось несколько новых домов, но изменилась она не сильно. Он видел ее мельком из автобуса и вчера ночью из сарая, но, несмотря на перемены, принесенные временем, глазам его она предстала такой, как прежде; и взирал он сверху на вспять повернувшее время: два человека поднимались к Бродвею, один — похожий на него двадцатиоднолетнего. Вверх, вверх, вверх шагал молодой человек, приближаясь к нему, и Френсис понимал характер уличного подъема.
Холод индейки проникал сквозь пиджак, студил бок и руку. Он взял сверток под другую руку и пошел по Северной третьей улице к дому. Подумают, хочу, чтобы при мне зажарили индейку. Надо сказать: вот индейка, зажарьте к воскресенью.
Навстречу ехали ребята на велосипедах. Уолтер-стрит была усыпана листьями. Нога заболела, подошва снова стала липнуть к тротуару. Чертовы ноги, тоже живут сами по себе. Он повернул за угол, увидел переднее крыльцо, прошел мимо. Свернул на дорожку и остановился у боковой двери перед гаражом. Поглядел на белую в горошек занавеску за четырьмя стеклышками двери, на ручку, на алюминиевый ящик для молока. Сколько же он украл бутылок из таких ящиков. Бродяга. Убийца. Вор. Тронул звонок, услышал шаги, увидел, как отодвинулась занавеска, увидел глаз, увидел, как приоткрылась на палец дверь.
— Здравствуй.
— Да?
Она.
— Принес тебе индейку.
— Индейку?
— Да. Пять кило шестьсот. — Поднял ее.
— Не понимаю.
— Сказал Биллу: приду как-нибудь в воскресенье, индейку принесу. Хоть и не воскресенье, а пришел.
— Это ты, Френ?
— А ты думала, из марсиан кто?
— Боже мой. Боже мой, боже мой. — Она распахнула дверь.
— Как жизнь, Энни? Выглядишь хорошо.
— Заходи, заходи же.
Она поднялась на пять ступенек, прямо перед ним. Лестница налево вела в подвал — туда он и собирался зайти сперва, забрать хлам для Росскама, а потом уже объявить себя. А теперь шел прямо в дом, закрыв за собой боковую дверь. Пять ступенек вверх под взглядом Энни — и в кухню; она пятится, лицом к нему. Смотрит. Но улыбается. Это хорошо.
— Билли сказал нам, что видел тебя. — Она остановилась посреди кухни, Френсис тоже остановился. — Но он не думал, что ты придешь. Господи, какая неожиданность. Мы прочли про тебя в газете.
— Стыдно было?
— Нет, все смеялись. Весь город смеялся — двадцать раз зарегистрироваться на выборах!
— Двадцать один.
— Ох, Френ. Ох, какая неожиданность.
— Вот. Сделай что-нибудь с этой птицей. Она меня застудила.
— Зачем ты принес? Да еще индейку. Потратился, наверно.
— Железный Джо мне говорил: Френсис, с пустыми руками не приходи. Звонок нажимай локтем.
Зубы у нее покупные. Нету больше тех красавцев. Волосы почти седые, только догадаться можно, что была шатенкой, а рот из-за новых зубов немного запал. Но улыбка та же, улыбка без обмана. И пополнела: грудь больше, в бедрах шире; и задники туфель завалены. Вены сквозь чулки проступают, руки красные, фартук в пятнах. Вот что делает домашнее хозяйство с красивой девушкой.
Какой он увидел ее в «Тачке».
Среди речников и лесорубов, в салуне Железного Джо, в самом низу Мейн-стрит.
Самая красивая в Северном Олбани. Так обо всех хорошеньких говорили. Но про нее — правду.
Вышла посмотреть, где Железный Джо.
И Френсис не решался подойти к ней два месяца.
Заговорил наконец.
Сказал: здравствуйте.
Через два дня они сидели на двух штабелях досок на лесном складе Кибби, и Френсис говорил глупости, которых никому в жизни не собирался говорить.
А потом они поцеловались.
Не тут прямо, а через сколько-то часов, а может и дней. Френсис сравнивал этот поцелуй с первым поцелуем Катрины и нашел, что отличаются они, как кошки от собак Вспомнив теперь оба и глядя на рот Энни со вставными зубами, он понял, что в поцелуе образ жизни проявляется так же, как в улыбке или покрытой шрамами руке. Поцелуи идут сверху или снизу. Иногда они идут от головы, иногда от сердца, а иногда просто от промежности. Поцелуи затихающие идут от сердца, и после них на губах остается сладость. Поцелуи, идущие от ума, норовят проделать что-то в чужом рту и почти не рождают отзыва. А поцелуи от ума и от промежности вместе и, может, с толикой сердечного, как у Катрины, — это такие поцелуи, что, бывает, всю жизнь не опомнишься.
Но вот случается такой, как на досках у Кибби, идущий и от головы, и от сердца, и от промежности, и от рук на твоих волосах, и от грудей, еще не так разбухших, и от объятия этих рук, и от времени, которое само следит за тем, сколько его может пройти без того, чтобы тебе хоть чуть-чуть наскучило, как впоследствии наскучивало целоваться почти со всеми, кроме Элен, и от пальцев (у Катрины тоже были такие пальцы), пробегающих по твоему лицу и вниз по шее, и от плеч под твоими ладонями, а в особенности от косточек, что растут из спины наподобие ангельских крыльев, и от глаз, которые то закроются, то откроются — проверить, с тобой ли это происходит, не приснилось ли во сне, и когда понял, что ага, не во сне, можно закрыть их снова, и от языка, едрена мать, от языка — да где же она этому научилась — никто так не умел, кроме Катрины, но она была замужняя, у ней ребенок, ей было где научиться — а ты, Энни, черт подери, ты-то где набралась, может, тут на досках каждый день упражнялась (нет, нет, знаю, не было этого, всегда знал, что не было), нет, у такой женщины, как Энни, это от природы, поцелуй идет от каждой части тела, и не только, и за этим ртом с этими новыми зубами, на которые сейчас смотрит Френсис, за прежними губами, которые он помнит и уже не хочет целовать иначе как в воспоминаниях (хотя и они подвержены переменам), — за этим ртом он прозревает заповедную суть этой женщины, суть, которая рождает в нем воспоминания не только о годах, но о десятилетиях, даже больше, о веках, эпохах, так что он уверен: неважно, где сидел он с этой женщиной — в древней ли пещере, в хижине ли на краю болота или на досках в Северном Олбани, — оба они будут знать, что есть в каждом из них что-то такое, что должно перестать быть одним и стать двоими и должно поклясться, что до конца дней другого не будет (и не было, такого же), а будет преданность, и суверенность, и верность, и прочая такая белиберда, которой люди забивают себе голову, когда сказанное ими не имеет никакого отношения к вечностям времени, а знаменует одновременное осознание парности навек — вот ведь как, — оба они, Френсис и Энни, в один и тот же миг понимают, что есть в них что-то такое, что должно перестать быть двоими и стать одним.