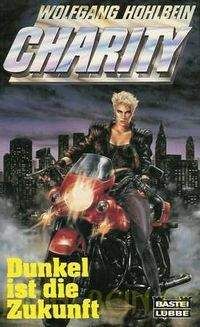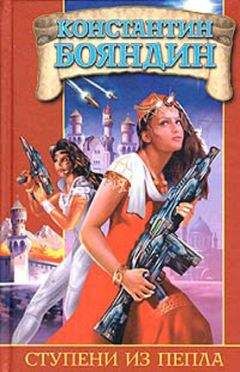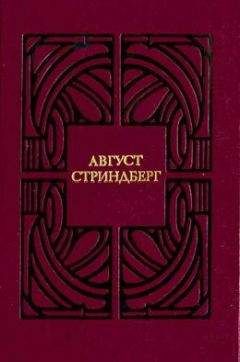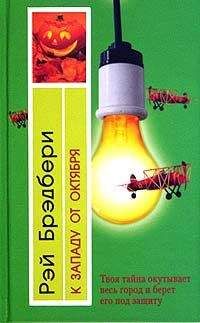Вольфганг Хильбиг - Временное пристанище
Оттого, вероятно, что он сам – смешон! Все клетки его организма, не наделенные в прошлой жизни любовью, мало-помалу заполнялись тягучей глупостью. Глупость, что лезет в Европе у каждого из ушей, отдает предпочтение именно таким пустехоньким клеткам. А он ими доверху нашпигован. Это гротеск какой-то, с таким-то запасом хоть в варьете выступай.
Тут ему вспомнилось, как он в последний раз перед окончанием визы ездил в М., маленький городишко к югу от Лейпцига, где родился и вырос. Дело происходило осенью, примерно в то же время, что и вторые венские чтения; вероятно, сразу же после «побега из Вены» – так Ц. называл глупый инцидент – он с промежуточной утренней остановкой в Мюнхене отправился в ГДР; он уж точно не помнил, помнил только, что той осенью одолевали тяжелейшие страхи, было уже не до ориентации во времени и пространстве. Отношения с Геддой поминутно грозили рухнуть; она не так уж часто произносила это вслух, но Ц. понимал, что его торопят с решением. Чем больше проходило времени, тем невозможнее было решиться. Он пил все сильней, ощущая себя преступником; вопрос, где и с кем ему хочется жить, давно сменился вопросом, хочется ли ему жить вообще.
Он прибыл в М. ранним вечером – из Лейпцига ехал на электричке через районный центр А., – в дороге сообразил, что мать о его приезде не знает; однажды, нагрянув так же внезапно, он вообще ее не застал, и пришлось пару часов провести в ожидании. От вокзала он двинулся через город длинной дорогой; желтое, уже слегка потускневшее осеннее солнце освещало улицу с запада. Оно опустилось между домами, но улица прорезала город стрелой с запада на восток, и, шагая по ней, он ощущал спиной тепло золотисто-желтых, уже красноватых лучей. В городе царило торговое оживление, народу было полным-полно, но каждый был так занят собой, что ни одна душа его не узнала, не окликнула. Подойдя к кварталу, где жила мать, он вдруг увидел старушку прямо перед собой. Она выходила из продуктовой лавки, нагруженная двумя кошелками. Он смотрел ей прямо в лицо, она тоже на него поглядела, да, верно, не узнала. Посмотрела растерянно, отвернулась и побрела в сторону дома. Он замер на месте… вот она вновь оглянулась, прищурилась, солнце слепило глаза, он стоял в кучке людей, копошившихся перед входом в универмаг; нет, она его не увидела, медленно побрела привычным путем, с трудом волоча кошелки.
Он поставил сумку на землю и переждал. Что здесь произошло? Он знал, что все последние годы у матери падало зрение, она сокрушалась, что во время поездок в Нюрнберг ей приходится из-за этого несладко.
Он выбрался из толпы и пошел за матерью, на расстоянии метров примерно в двадцать. Как медленно она идет! Он ужаснулся, поняв, как она постарела, за очень короткий срок вдруг стала совсем старухой; она шла неуверенно, осторожно-осторожно, сгибаясь под тяжестью кошелок, взгляд устремлен к земле, наверное из-за болезни глаз, глаукомы… она рассказала, что однажды ее сшибли с ног, когда она шла в магазин, и, пока кто-то не подал очки, так и лежала на мостовой.
Навстречу матери шла одна из ее соседок; женщины остановились перемолвиться парой словечек; он стушевался на боковую улицу, чтобы его не увидели. По ней добрался до улицы, параллельной той, на которой жила мать, затем повернул еще на одну боковую, которая выводила на улицу матери, в двадцати-тридцати метрах от ее дома.
Он видел, как мать приближается, медленно, шажок-другой, бесконечно долго переходила она наискосок через проезжую часть и брела до подъезда; переход улицы давался с трудом, она то и дело смотрела по сторонам. Он затаился за углом, чтобы его не заметили. Мать отперла подъезд, поставила ногу на порожек, прислонилась плечом к косяку и, не выпуская ручек, опустила кошелки наземь; минуту передохнула. Вид у нее измученный. Подняла сетки, вошла в подъезд; дверь захлопнулась.
По боковой улице он вернулся назад, кратчайшим путем дошел до вокзала и поехал обратно в Лейпциг. – По дороге наблюдал в поезде за пассажирами, в основном за молодежью: как те сидят на скамейках и слоняются по вагону, говорят, болтают, быстро, много и громко, врубают на всю катушку магнитофоны, тянут пиво, с безудержным энтузиазмом отпускают в сотый раз одну и ту же остроту. Казалось, они были полны жизнелюбия… никому из них поездка на Запад и не светит, все они пленники этого реального социализма, а надо же, преисполнены радости, наполнены до краев любовью, так и лучатся гордостью и энергией…
Он подумал о Марте; приезжая в Лейпциг, он всегда первым делом думал о Марте, жене своего друга Г.; думал о том, что у Марты, вероятно, сможет переночевать. Марта в его затруднениях нравственного аспекта не усматривала, никогда не пыталась быть ему цензором. Марта – хрупкая женщина, у нее из-за близорукости порой довольно беспомощный вид, большие мягкие груди докучают ей своей тяжестью. Ц. был помешан на этих грудях, а она все его попрекала:
– Ну, что ты все титьки мои теребишь, забыть о них не даешь. Они мне и так на нервы действуют.
Г. оборачивался – обычно он шел на пару шагов впереди: ему необходимо было вести процессию – и изрекал:
– Да ладно тебе, пусть тешится! Иначе он себя чувствует как пятое колесо в телеге, что с дурака возьмешь.
В Лейпциге Ц. решил сесть на первый попавшийся поезд, который привезет его обратно на Запад: в Нюрнберг, Мюнхен, во Франкфурт-на-Майне, все равно куда. Или в Берлин, там быстрее всего перейти границу…
После того как срок визы истек, чтения начались в полную силу. Ему присудили известную литературную премию, после чего приглашать стали еще чаще. Теперь он выдерживал чтения гораздо более стоически, разуверившись и смирившись, он подчас даже весьма убедительно продемонстрировал собственную персону в ее путаной не-идентичности (анти-идентичности) растерянно прячущей глаза аудитории. Такой вечер, размышлял он потом, стоило бы отметить галочкой как удачный. Ясно, что попался как кур в ощип: если все хорошо, то тебя принимают, даже, бывает, восхищаются как писателем, но любви там не обретешь…
После чтений, как правило, шли в ресторан – поужинать или выпить. Всякий раз он сидел там как на иголках, в застольных беседах участвовал с превеликим трудом; по-видимому, удавалось это только ценой полного самоотречения, которое на несколько часов повергало его в состояние дезориентации. Если после ужина его не отвозили в гостиницу на машине, то, бывало, он целую вечность плутал по чужому городу, который складывался все более сложным узором, в панике разыскивая отель, находившийся, как ему поначалу казалось, сразу за углом.
То было время, когда в самых разных гостиничных сетях вводили так называемое «Pay-TV». Нажимая па кнопку пульта, постоялец мог посмотреть в своем номере видео – предлагалась обычно подборка из четырех разных фильмов; сигнал о включении регистрировался, при погашении счета взималась наценка примерно в двадцать марок за ночь. Предложение нацеливалось на кошельки скучающих командированных, которым фирма платила, как правило, только за номер; так называемые «экстрауслуги», как то: телефон, мини-бар, химчистка и это самое «Pay-TV», – на ваше личное усмотрение. И если мужчина не расположен идти в бордель, то у него остается возможность примерно за двадцать марок извергнуть семя в телеэкран, поскольку как минимум две программы состояли из порнофильмов; на английском и на немецком, что, впрочем, особого значения не имело, ибо весь звуковой ряд был намешан из подвываний и столь же подвывающей музыки. За очень короткий срок, примерно за год, все сомнения при отборе программ, кажется, были отринуты: если первоначально показывали софт-порно, безобидное кинишко, в котором нижний край кадра тщательно совмещался с границей лобковой растительности, то очень скоро это ограничение исчезло. Теперь задача свелась к тому, чтобы разместить по центру экрана более или менее освещенную вульву и продемонстрировать, как в нее с механической равномерностью вводится член.
Самым удивительным в этом кадре было упорство, с которым в течение бесконечно долгих минут показывалось это неизменное туда и обратно, не менее удивляли и затяжные стоны и повизгивания героини, которую обрабатывал внушительный инструмент, судя по всему без малейшего воздействия на ее эротическое самочувствие; ухо воспринимало лишь музыкальное сопровождение да шумовую кулису, в которой герой участвовал редким всхрапом и которая даже не нуждалась в синхронизации: лица актеров значения не имели. Чуть погодя возникало крепкое подозрение, что стоны и хрюки есть результат акробатического усилия, какое нужно затратить актерам, дабы глаз кинокамеры мог бы каждый миг беспрепятственно фиксировать совокупленные гениталии. Нельзя, стало быть, чтобы их заслоняли, допустим, ляжки, которые то и дело мешали и все искали себе укромное место где-нибудь за пределами кадра, чтобы оттуда амортизировать ритмичную качку, выступая подпорками и придавая равновесие всему телесному сооружению.