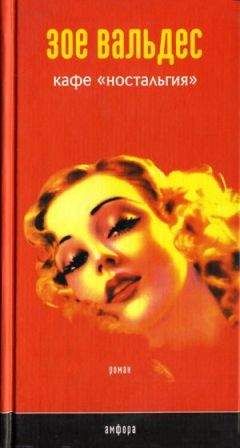Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 11 2005)
— Все проще простого. — Серафима вдруг как бы упростила подготовленный ею ранее ответ, решила сыграть его не в героических и возвышенных тонах, а на манер ролей юродивых, старых купчих и свах в пьесах Островского; но и это потребовало от нее, несмотря на певучесть интонаций, большей жесткости формулировок. — На волне перестройки — приписки, хлопковое дело — Сулеймана Абдуллаевича посадили. Я сразу же уехала из республики, из Средней Азии, в Иркутск. Конечно, помогло звание, кино почти перестало работать. Но и со званием прожить было нелегко. Кое-что продала. Ты, конечно, понимаешь, что прежде у меня было другое положение.
Разобраться во всем этом было не так уж и трудно. В начале перестройки заболела Саломея, стала меньше ездить за границу, деньги перестали что-нибудь стоить. В девяностых мы тоже что-то продавали, а назавтра деньги значили уже вполовину меньше. Когда Саломея изредка пела где-нибудь в Казани или Омске, она с гастролей привозила соленое свиное сало, мед, консервы, сыр — все, что поклонники доставали ей по госцене или что она сама умудрялась купить. В это время такая бездна компромата на всех и вся шла по телевидению, что я вполне мог пропустить грустную историю одного из секретарей республиканских ЦК.
Я помнил основной психологический закон доверительного разговора: не перебивать и никаких уточнений, даже если не понимаешь. Следует только сочувственно кивать. На словах “другое положение” я подумал про себя: если бы при этом “положении” была не выдающаяся актриса, а просто молодая красотка с крашенными под блондинку волосами, театру бы не повезло. Но надо было слушать.
— Машина, которая меня отвозила на репетицию и с репетиции, курорт летом, другое медицинское обслуживание, другие продукты. А тут я оказалась в незнакомом городе, в однокомнатной квартире. Приходилось завоевывать место в театре. Положение актрисы на амплуа старухи или даже гранд-дамы — это совсем не то, что у основной героини, балующейся иногда характерными ролями.
Тут я улыбнулся.
— Ты чего смеешься, чекалка?
— Меня зовут, кстати, Алексей, ты не забыла?
— Не забыла, не забыла.
Алексеем меня женщины почему-то никогда не называли. Саломея обращалась чаще по фамилии: “Новиков, сходи за молоком”, “Новиков, иди в гараж за машиной, через час мне ехать в театр”, “Новиков, ты что-то плохо выглядишь, не заболел?”
— Я вспомнил, как ты играла Комиссара в “Оптимистической трагедии”.
— Как в Кушке мы увидели в зале голых солдат?
— Нет, совсем нет! — Дружеский ужин на то и дружеский ужин, чтобы проводить его весело и не только за функциональными разговорами. — Как на правительственном спектакле ты оговорилась.
В возникшую на секунду паузу мы оба вспомнили тот эпизод. Каждый, конечно, по-своему.
Собственно, зачем мы ходим в театр? Узнать содержание пьесы, чтобы ее не читать? Это современного потребителя духовной продукции радует, когда, скажем, на кассете с курсом английского языка написано: “За рулем, дома, на отдыхе. Короткие, удобные для запоминания уроки. Слушайте и запоминайте. Не надо ничего читать”. Тексты пьес мы знаем, мы приходим в театр слушать подтексты. Я иногда вцеплялся в ручку кресла, когда слышал, как волшебным голосом, так тихо, что было слышно, как в зале дышит какой-нибудь залетевший сюда астматик, Серафима произносила, обращаясь к герою “Оптимистической трагедии”, которого, кстати, звали так же, как и меня. Он умирал, она трясла его за плечо, будто пыталась поднять: “Алексей, мы разобьем их в пух, в прах”. На правительственном спектакле Серафима оговорилась: “Алексей, мы разобьем их в пух, в пах”. Если бы в зале кто-нибудь засмеялся или хмыкнул, заслуженная артистка вряд ли стала бы когда-нибудь народной, но половина зала уже сидела со слезами на глазах. Все поняли, что это была оговорка. Серафима выдержала паузу и повторила: “Алексей, Алешенька! — Тогда я подумал, что второй раз произнесенное имя точно относится ко мне. — Мы разобьем их в пух, в прах”. Аплодисменты. Какая тогда была овация! Поздно вечером я, дождавшись, чтобы никого в округе не было, прошмыгнул в подъезд дома, где жила Серафима, и, кормя меня ужином, она сказала: “Я помертвела, когда оговорилась. На обычном спектакле здесь вся бы сцена взорвалась хохотом. А тут слышу, как умирающий Алексей, через сжатые зубы, не дрогнув ни единым мускулом в лице, шепчет: “Повтори еще раз”.
— Ну и что дальше?
В той же тональности Серафима продолжила рассказ:
— Дальше становилось все хуже. Ни друзей, ни знакомых. Люди, наверное, кое-что узнали о Сулеймане Абдуллаевиче, появилась какая-то завистливая недоброжелательность. За спиной всегда шепотки... Квартира обогревалась плохо, свет отключали, грипп, два подряд воспаления легких, попала в больницу, сделали обследование, оказалось, не только легкие надо лечить, но и делать операцию на почке. Старая опытная врачиха в больнице сказала: операцию бесплатно у нас как следует не сделают. И тут я вспомнила: в дальних предках у меня есть и евреи, и немцы. Когда подала заявление в посольство, естественно, ни во что не верила. Ждала отказ и готовилась умирать, но тут девяносто третий год, штурм парламента в Москве. В немцах взыграло какое-то непонятное мне чувство вины и перед своими бывшими соотечественниками, и перед евреями. В прессе — об этом пресса пишет всегда — ожидание погромов. И вдруг, внезапно, пришел вызов.
Вряд ли здесь Серафима играла, воспоминания ее были слишком свежи, видимо, боль не раз возникала и еще не утихла. А может быть, это привычка актрисы все “свое” каждый раз проигрывать. Я смотрел на ее лицо, в глаза, когда она произносила короткие предложения, за каждым из которых событие, часто роковым образом влияющее не только на ее личную судьбу, но и на много других судеб, и будто смотрел кинофильм. Какой крупный план… Как бы сейчас затих зал… Публику уже не волнуют выдуманные ситуации, она ждет публичной и полной гибели всерьез своего кумира.
Серафима сделала паузу, набрала воздуху, чтобы продолжить монолог. Вошел кельнер, убрал тарелки, поставил перед каждым по чашке кофе. Было уже около часа ночи, тихо. Стало слышно, как на ратуше расправляет свои жестяные крылья петух.
— Сейчас выпьем кофе и через час или два перейдем к завтраку. — Серафима нажала на какую-то кнопку на своей похожей на космический агрегат машине, и кресло внезапно развернулось, встало боком к столу. Я не изменил позу, только поднес ко рту чашку с кофе. Кельнер за стойкой, видимый через открытую дверь, перетер посуду и теперь просто сидел, подперев голову руками, и глядел куда-то вдаль.
— Я не спрашиваю ничего о тебе, потому что все знаю. И не только из газет. От знакомых из России, с которыми переписываюсь. Я вполне могла оказаться в положении твоей жены, но здесь медицина за деньги делает чудеса. Может быть, ты обо всем этом напишешь еще и роман. Вы сейчас все, профессора и бывшие ученые, этим занимаетесь. Раньше вы строили дачи и сидели на партийных собраниях, а сейчас пишете плохие, скучные романы.
Коляска Серафимы еще чуть развернулась. Кто бы мог ожидать от женщины, к тому же актрисы, такой точности в манипуляции с техникой. Браво! Это, наверное, привычка работы в кино по командам режиссера: “Два шага вперед, и на крупном плане даете реплику, а потом повернете голову вот на этот софит и начнете плакать”. Серафима всегда мне говорила, что слезы на сцене сами по себе ничего не значат, важно состояние, внутренняя энергия, которая написана на лице. Слез у Серафимы в этот момент не было, а вот энергия... Какой крупный план пропадает!
— Выйдем на несколько минут на воздух, — сказала она, — я успокоюсь, а ты подышишь. — Пересекая на своей самодвижущейся колеснице зал, Серафима бросила кельнеру: — Молодому человеку, — это мне, — еще порцию жареной свинины, еще один салат и немножко водки.
Как же замечательно она говорила по-немецки!
В дверях я попытался помочь ей переехать порог.
— Не надо, не надо, — как английская королева, до которой по этикету нельзя дотрагиваться, остановила меня всадница электронного кресла. — В машину встроено несколько компьютеров, и она умеет даже взбираться по лестнице.
— Стоит, наверное, целое состояние?
— Не дороже жизни. Ой, чекалка, ты весь просто дрожишь оттого, что тебе хочется узнать, как я здесь разбогатела. Не оправдывайся, расскажу.
На площади было ветрено и свежо. От подсвеченной ратуши во все стороны расползались знакомые улицы. Всё рядом: дом Вольфа, дом Гриммов, дом Лютера, внизу, сразу за площадью, мемориальная доска Ломоносова. А вот не этот ли “булыжник” попал в знаменитое стихотворение? На следующем ярусе, над площадью, — замок со своими легендами, Елизаветой, Филиппом. Все пронизано историей, деяниями, мыслями, искусством, жизнью. Через переулок — кафе “Фетер”, откуда всю эту дремучую густоту истории обстреливают наши современные писатели. Понимают ли облака, над каким местом бегут?