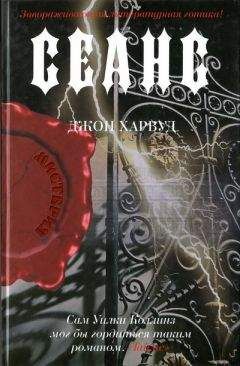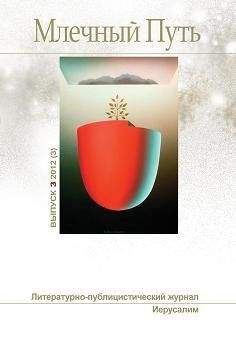Вержилио Феррейра - Явление. И вот уже тень…
— Но ты же неверующий.
— Если бы я был верующим, я бы не слушал. Те, кто там, в церкви, не слушают, они поют. Земля не знает себя самое.
— Так ты… выходит, ты нашел то, что я ищу?.. Преодоление печалей, сомнений… Ты видел абсурд и чудо и остался спокоен?
— Не понимаю, что ты хочешь сказать. Но уверен, что то, что ищешь ты, я не нашел. Потому что находит только тот, кто ищет.
Месса шла к концу. Из церкви стали выходить. Выходить, надевать на пороге шапки, собираться группками у старых домов, греться на солнышке. Наконец, накинув на голову шаль, вышла и наша мать. Она садится в машину рядом с братом, я — сзади, подавшись всем телом к ним вперед. Мать молчит, но глаза ее обвиняют нас за наше неверие. «Даже на рождество…» Да, милое существо. Но знала бы ты, как хорошо знаком мне твой мир теперь, когда я живу отдельно! Знала бы ты, что всю эту заснеженную дорогу меня преследует эхо твоих хоров! Они звучат неведомо откуда, из головокружительных далей, яркие, восторженные. И, как свечи в божественных яслях, озаряют пустынную, идущую меж безмолвно стоящих деревьев дорогу. Солнце вторит им, мир поет их с безумной мощью, в них — неодолимая наивность, которая доводит до слез. Знаешь ли ты, какое суровое мужество необходимо, чтобы слушать эти хоры и оставаться во власти своей бесплодной судьбы? Мы идем издалека, и идем по дороге жизни до встречи с откровением. Я слышу твои хоры в своем страшном совершеннолетии. Они прекрасны и печальны, как крик ребенка, оставшегося на вокзале…
На скользкой дороге автомобиль буксует. По обочине молча идут умиротворенные, погруженные в свои мысли люди. На убеленной снегом земле играет солнце, играет, искрится на заостренных иголках льда…
— Зайдешь домой, мама, или прямо поедем?
— Зайду на секунду. И вы зайдите.
Но мы ждем ее в машине. Я опускаю стекло, закуриваю. Залетевший ветер холодит мое лицо. Я смотрю на почерневший от многовековых бед, одиноко стоящий в необъятном белом безмолвии дом. Чуть поодаль, в стороне — гора, она возносит к суровому стальному небу свои занесенные снегом вершины. Неожиданно для себя я спрашиваю Томаса:
— Ты счастлив?
Он изумленно, силясь понять, смотрит на меня.
— Никогда не думал об этом. Или нет, раньше думал. Да, конечно, думал. Но сам себя не спрашивал. Трудно ответить. Признаю и принимаю, — может, так. Жизнь — это вообще счастье, а я ее частица.
— А о смерти ты когда-нибудь думал?
— Да я ее каждый день вижу.
— Я спрашиваю, о своей смерти ты думал?
— О своей… Конечно, думал. У меня шестеро детей, почти семеро. Как же не думать?
Но я говорил не о том и потому тут же пространно пояснил свой неясный вопрос. Свести никчемность жизни к ее грубой необходимости, решить ее в практической сфере, попросту говоря, прожить — это несложно. Но я не о том, я считал должным открыть свою собственную личность, увидеть ее блистательное сверкание и не ослепнуть и не оглохнуть. Томас против моего ожидания нисколько не смутился.
— Зимой иногда я читаю далеко за полночь. До чего же прекрасна зимняя ночь! Ясная, чистая. Бывает, я подхожу к окну, чтобы посмотреть на звезды, на застывшие в безмолвии темные поля. И вот тут я вдруг понимаю, что в том, что я живу, есть нечто необычное. Я очень ясно ощущаю себя. И не только себя, но и то, что является частью меня, — моих детей, которые спят крепким сном, работников, с которыми я разговаривал, и землю, которой я помогаю трудиться. И все это так, будто я — часть чего-то, чего-то очень большого, что идет от меня к знакомым мне людям, от них к знакомым их знакомых, и в прошлое, и в будущее.
— Но это не то! Это другое, совсем другое!
Наконец из дома выходит мать, и мы трогаемся в путь. Тут я вдруг вспомнил о подарках, привезенных малышам. Вернулся в дом, раскрыл чемодан, нашел кулечки с алентежскими сладостями, с разными местными лакомствами. Все завернул и вернулся в машину. Теперь до шоссе мы ехали по узкой дороге. А там, километров десять — и мы в деревне брата. Его дом был домом тестя. Тесть же жил на другой своей ферме с виноградниками, оливковыми рощами и пахотными землями. Это же было небольшое местечко с небольшой речушкой и широко раскинувшимися бесплодными землями. Дом двухэтажный, просторный, за домом виноградник и тут же рядом старый сосновый лес. Когда Томас почти у дома, после подъема по тополевой аллее, затормозил, машину атаковала орава горланящих ребятишек. Те, что постарше, легко сбежав с гранитной лестницы, неслись впереди, следом за ними, неутешно плача, что не может угнаться за братьями, поспешал самый маленький. Тут появилась Изаура. Спокойно спустившись с лестницы, она подошла к нам. Мелкота прыгала вокруг, не давая мне распределить подарки. Наконец я достиг своего, и каждый получил именно ему предназначавшийся сверток, который тут же был вскрыт и сопоставлен с теми, что получили другие.
— Вы не очень с ними церемоньтесь, они ведь на шею сядут, — сказала Изаура.
Я взял на руки самого маленького, который никак не мог развернуть полученный подарок. Прислонившись к лестнице, я посадил его себе на колено и приступил вместе с ним к сложному делу. Но как только сверток был развернут, малыш попросился на пол и тут же стал хвастаться полученным. Мать с Изаурой поднялись в дом, ребята разбежались, я остался один на один с Томасом. Мягко светило солнце, мы шли между слегка припорошенных снегом виноградных лоз, снег быстро таял. Так мы дошли до сосняка, где на солнышке грелись несколько голых скал. Я посмотрел окрест себя, глубоко вздохнул, весь во власти мягкого, снежного, солнечного дня.
— Вот ты, Томас, в своих владениях. С кучей детей. Патриарх, да и только!
Он тоже смотрел окрест. Потом, чуть прищурившись, пристально, словно изучая, взглянул на меня.
— Ты сказал, что увидеть себя самого — это совсем не то, что увидеть себя в других. Когда человек что-нибудь чувствует очень глубоко, он, как правило, считает, что никто другой этого не чувствует. Я думаю, это происходит потому, что свои чувства очень трудно передать. Ты считаешь, что старый бог, бессмысленность смерти и чудо жизни никогда не были предметом моего внимания. Так вот — были. Но теперь они как домашние животные. Я сплю спокойно в их компании.
— Это невозможно. Ты ничего не увидел. Ты не увидел личности нашего отца, единственной реальности его самого, которая в нем жила. Ты еще не пережил явления тебя самого тебе самому. Ты никогда наедине с самим собой в полной тишине не думал: «Я живу, я существую, я и есть та наделенная разумом сущность, которую можно почувствовать, потрогать, но не всегда можно осмыслить, она до ужаса непонятна, осмысливая ее, холодеешь». Ты же живешь среди сельского покоя в полудреме и, по сути дела, не осознаешь, что смертен.
Томас покачал головой.
— Бедный Алберто. И почему ты не ходишь в церковь? Тебе туда прямая дорога.
— Жизнь не разрешается, как разрешается болезнь. Правота жизни в созидании, в творчестве, а этому научить не может никто. А если учит и мы воспринимаем, то не отдаем себе в том отчета, это еще одно созидание.
— Похоже, что так. Я только что тебе это же самое сказал. Апостолы есть в каждом деле.
— Как поводки для собак. Или как луч света в темной комнате: свет уйдет, и в ней все как было, без изменений.
— Может, и так, может, — снизошел Томас. — Я всего лишь жалкий землепашец. У меня нет stock[19] идей на все случаи жизни. Но что касается моего личного опыта — думаю, ты заблуждаешься. Ведь ты еще ничего не сказал такого, что бы мне не было известно. Я вот, например, раздумываю о своих детях. Они независимые существа, во всяком случае, так они себя ощущают и не связывают себя ни с чем, как и мы в детстве. Мы же не чувствовали связи с родителями. И хотя дети похожи на нас, на меня в частности, чертами лица, манерой держаться, привычками, но они этого не знают и не понимают. Но я-то это хорошо вижу и чувствую, чувствую в них то, что принадлежит мне, то, что мое. У меня одна жизнь, она, как ты говоришь, чудо. И абсолютное ничто смерти оглушает. Однако я знаю, что жизнь существует независимо от меня лично и с моей смертью она не кончается. Да, иногда это я вижу особенно ясно. Но и тогда я не закрываю глаза на смерть. Конечно же, она меня тревожит, но… я успокаиваюсь и смиряюсь: ведь смерть принимает образ сна — сна, к которому клонит после тяжелого трудового дня.
— Томас! Алберто!
— Сейчас, сейчас, идем.
Обед был для меня таким необычным спектаклем, что я, видно, его никогда не забуду. И теперь вот, сидя за своим письменным столом и вспоминая его, я думаю, что он был лучшим ответом на все мной сказанное Томасу. У Томаса я обедал и ужинал не раз. Но вспоминается мне именно этот рождественский обед. В большой дальней зале поблескивает приборами на двадцать персон длинный стол (возможно, даже два или три, составленных вместе), приготовленный для нас с матерью, всего племени Томаса, его тестя, тещи, с которыми я разве что двумя-тремя словами и перекинулся. Наполняя дом адским криком, стуча по тарелкам ножами и вилками, ссорясь друг с другом, рассаживается за столом выводок Томаса. Невозмутимая Изаура, заканчивая приготовления, просит их вести себя тише. Но мальчишки возбуждены, у них взаимные претензии друг к другу. И вдруг садимся мы. Изумленная, растерявшаяся ребятня утихает, но не надолго. Как только новизна им становится привычной, они опять начинают шуметь и ссориться. Они кричали, поднимались с мест, высказывали протесты, и все громко, с криком, всеми силами стараясь обратить на себя внимание Изауры, ее родителей и моей матери. А Томас, несмотря на весь этот гвалт, разговаривал со мной, понизив голос, как будто стояла полная тишина. Он сидел во главе стола, я — рядом с ним. Все громче и громче ссорились друг с другом мальчишки, злились, что-то требовали, отставляя тарелку в сторону, вылезали из-за стола, громко плача, и тут же принимались бегать и даже драться. А Томас все так же спокойно продолжал есть. Он поворачивался ко мне с каждой пришедшей к нему мыслью.