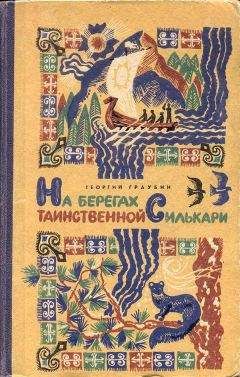Джойс Кэри - Из первых рук
—Слышала о нем за последнее время?
—Каждый вечер бывает в танцевальном салоне со своей Белобрысой.
—Не велика потеря. Что ты от него видела? Одно беспокойство.
—Еще как велика! Не утешайте меня. Вилли того стоил. И на сорок фунтов мебели, одеяла, два комплекта двуспальных простынь, шесть личных полотенец с инициалами. Тут в омут головой бросишься.
—Не валяй дурака, Коуки. Подумай о всех чашках чая и булочках с маслом, которые ты упустишь.
—Не бойтесь, я не собираюсь топиться. Раньше Белобрысая сдохнет. Кому-то надо ненавидеть эту суку; так кому же, как не мне?
—Глупее ничего не придумаешь, особенно если ты женщина. Потерянного не воротишь, а если и воротишь, так это будет не твое, чужое.
—А мне чужих объедков не надо. С меня хватит того, что я ненавижу эту шлюху. Посмотрите только на мои бедные стулья ножками вверх. Словно дохлые псы, которые наелись отравы. Не говорите мне о прощении, не то я рассержусь и дам вам раза.
—Не о «простить» речь, а о «забыть».
—Хватит, а то мы всех перебудим. Посмотрите на пол, старое пугало. Вы промокли до нитки. Под каждым ботинком лужа.
—Это течет с пальто.
—Так снимите его. Не стойте, выпучив глаза, как протухшая копченая селедка.
—Я сегодня хорошо поработал, Коуки. Удачный день.
—Удачно будет, если вы не схватите воспаление легких. Хорошенькое дельце, если вы помрете у меня на руках.
—Это будет настоящая картина... не хуже всего, что я сделал. Даже лучше.
—Так я и знала, даже рубашка мокрая.
—По правде сказать, Коуки, я первый класс. — Я сам удивился, когда это вдруг соскочило у меня с языка. Но раз уж я сказал «а», почему бы не сказать и «б»? — Никому об этом не говори, Коуки, но я важная персона. Лет через сто, а может, и пятьдесят, Национальная галерея будет давать по пятьдесят тысяч фунтов за мои картины. И не просчитается. Потому что мои картины — это настоящие картины.
—И ничего, кроме лохмотьев под рубахой... Вы замерзнете насмерть не нынче завтра.
—Сказать тебе правду, Коукер, я гений.
—Не удивлюсь, если у вас поднялась температура.
—Ты думаешь, я брежу?
Коукер вертела меня в разные стороны, как тряпичную куклу, не переставая ругать.
—Вот еще напасть на мою голову... Видно, уж придется положить вас в постель. Будет соседям о чем языки чесать. Да они так и так болтать станут. Ну-ка, снимите штаны и переверните на другую сторону, они-то хоть сухие. Задом наперед; неужто не ясно? — И она пихнула меня на кровать и принялась стаскивать с меня брюки. Коукер никогда не отличалась терпением.
—Ты не веришь ни одному моему слову, Коуки.
—Поднимите зад... Как мне их стянуть, когда вы на них сидите?
—Думаешь, откуда я знаю, что я один из величайших художников в мире?.. Конечно, таких художников наберется сотни две-три, но это не так много на тысячи миллионов.
—Да, да, вы великий человек.
—Что ж, можешь смеяться.
—Я не смеюсь. Мистер Плант говорил мне это еще два года назад.
—Что он тебе говорил?
—Что вы настоящий гений. Не волнуйтесь, здесь у нас все это знают. Даже ребятишки говорят: «Вот идет профессор».
—С чего они это взяли?
—Они думают, у вас не все дома; да и кто бы подумал иначе? Ну, лезьте туда, к стенке, и не двигайтесь с места. Я положу посредине валик от дивана, на всякий случай.
—Что ты понимаешь под словом «гений»?
—Я не собираюсь ждать здесь всю ночь. И отвернитесь к стене, пока я не лягу.
Коукер разделась и стала на колени — вечерняя молитва. Я взглянул на нее одним глазком, чтобы удостовериться в этом, и, когда она кончила, сказал:
—Я думал, ты ненавидишь Бога, Коукер.
—И ненавижу.
—Зачем же ты молишься?
—Он наш Отец, так ведь?
—Смешная причина.
—Так смейтесь. Ну вы мне и надоели! Дайте-ка лоб. У вас, верно, жар. Веселенькое сообщение появится в газетах, если вы отдадите Богу душу у меня в постели. Что ж, все в порядке вещей. Удивительно, как это я не косая и не колченогая. Ну, спать!
Коукер накинула веревочную петлю на выключатель, положила валик посредине постели и легла с другой стороны. Затем дернула за веревку, и свет погас. Свет ушел, и сквозь занавеску в комнату вошла луна, разлившись по одеялу волнами. А я был весел, как Гаррик. Подумать только, думал я, в моей жизни столько счастья, а этой бедной девчонке суждено мучиться с колыбели. Смех разбирает.
—О чем ты молилась, Коуки?
—Не ваше дело.
—Тебе надо поискать симпатичного вдовца лет пятидесяти, с деревянной ногой. Скидка с обеих сторон.
—Если вы будете надо мной смеяться, я вас стукну.
—Мебель у тебя уже есть, осталось обзавестись мужем.
—Очень надо! По мне хоть совсем больше мужчин не видеть. Подлые обманщики все до одного.
—Ты же собиралась выйти за Вилли?
—Вилли не такой. Он джентльмен.
—То-то он смылся и оставил тебя на бобах.
—Он сам не понимал, что делает, бедный мальчик, когда Белобрысая захороводила его. Она известная птица.
—Так ты молилась, чтобы Белобрысая попала в беду?
Коукер не ответила.
—Знай она, что ты ни о чем другом думать не можешь, вот бы посмеялась.
—Смеется тот, кто смеется последним. Дайте мне только добраться до нее.
—Где она живет?
—Это я и пытаюсь узнать. Серной кислоты в лицо — вот чего ей нужно.
—Получишь семь лет.
—Стоит того.
—Ошибаешься, Белобрысая будет камнем на твоей совести до самой смерти. Станет являться тебе вся в ожогах.
—Ну и пусть, лишь бы добиться справедливости.
—Справедливости нет на этом свете. Этот овощ в наших краях не растет.
—Расскажите это кому-нибудь другому.
—Смешно.
—Отчего?
—Оттого, как несправедливо устроен свет.
—Мне от этого не смешно, а грустно.
—Грустно, так грусти, кому что по вкусу.
—Может, вы дадите мне спать?
И через пять минут она спала мертвым сном. Я сел, чтобы взглянуть на нее. Лицо ребенка. Дышит как младенец. Перевернулась на другой бок, как это делают дети: внезапное землетрясение. Вздохнула, выпростала руку из-под одеяла. Все — не просыпаясь. А какая рука! Мрамор под луной. Мышцы Микеланджело, и, однако, женская рука. Ничего лишнего. Вылеплена, как соло на скрипке. Прелестнейший локоть, я еще такого не видел, а это трудный сустав. Никакого жира над запястьем, плавный переход к пальцам. Крепкая как раз настолько, чтобы в ней были жизнь и сила. Благослови ее Господь, подумал я, девчонка — красавица и сама того не знает. Я был готов расцеловать Коукер за этот локоть. Но что толку? Она все равно не поверит мне, если я ей скажу, что такой локоть — произведение искусства.
И я подумал: вот руки, которые нужны моей Еве; а тело — Сарино. Такое, каким оно было тридцать лет назад. Руки у нее всегда были слишком мягкими. Кухаркины руки. Все в веснушках. Жадные и сентиментальные руки. Похотливые запястья, перетянутые кольцами Венеры; предплечье — как холка жеребца. А Ева — труженица. Гнула горб от зари до зари. Адам был садовник, поэт, охотник. Весь из струн, как арфа. Чуткий инструмент. Ева — гладкая и плотная, как колонна, крепкая, как ствол дерева. Коричневая, как земля. Или красная, как девонская глина. Красная даже лучше. Железная почва. Железо — магнит — любовь. Ева — дщерь Альбиона.
И таковы Альбиона дщери в красоте своей,
И каждая трижды богата головой, и сердцем,
и чреслами,
И у каждой трое врат в три неба Бьюлы{19},
И сквозь эти врата свет пронзает чело их, и перси,
и чресла,
И огонь те врата охраняет. Но когда соизволят,
Принимают в свои небеса в опьяненье услады.
Когда мы встали, я попытался нарисовать руку Коукер по памяти на последней странице молитвенника. Но она получилась бездушной. Плоской.
—Мне бы хотелось написать тебя, Коукер, — сказал я. — Твои руки — вот что мне надо.
Коукер даже не ответила.
—Побыстрее глотайте чай. Мы спешим.
—Спешим? Куда?
—Мы сегодня идем с визитом.
И тут я заметил, что Коукер опять при параде.
—Ты не собираешься ли снова тащить меня к Саре?
Мне вовсе не улыбалось видеть Сару, особенно после той встречи у Планта. В моем возрасте у меня не было на это времени.
—Нет, — сказала Коукер. — С ней мы покончили. Мы идем к Хиксону.
—Не слишком ли скоро?
—В том-то и фокус: попасть к нему прежде, чем она его предупредит.
—Сара не сделает этого. Она подписала все, что нам было нужно.
—У нее в глазах — и нашим и вашим, а в улыбке — ловушка.
—Только не сегодня, Коукер, у меня срочная работа, она не может ждать.
—Что значит «не может ждать»? Вам что — открывать в десять? Или кто-нибудь уйдет без пива, потому что вы отправились по своим делам?