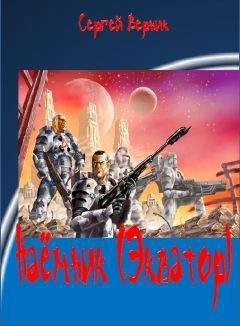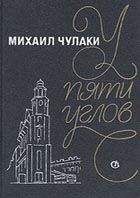Клер Эчерли - Элиза, или Настоящая жизнь
— Нет, я уеду на рождество.
Люсьен отложил лимон.
— Ты уезжаешь в конце месяца?
— Мне пишут из дому. Я должна вернуться.
Я хотела, чтоб он ощутил укоры совести, хотела нарушить покой этой замкнутой жизни, в которую был открыт доступ только массам, войне, положению пролетариата, а для двух человеческих существ — его дочери и Мари — Луизы — вход был напрочь заказан. Я ему мстила. Он понял.
— Арезки будет скучать по тебе. Знаешь, ты неплохо выбрала, это самый стоящий парень в цехе, может, даже на заводе. Он да еще Жиль. Но Жиль… Да, самый стоящий. Характер, однако, у него гнусный. Я с ним работал, знаю. Обидчивый, подозрительный. Жиль его тоже высоко ставит.
— Хотелось бы мне побеседовать с твоим Жилем, — вмешался Анри.
Люсьен сделал вид, что засыпает.
Анри встал, потянулся.
— Оставляю тебе газеты и листовки. Если найдешь ребят, которые могут распространить…
— Да, из тех, что клеили плакаты… Как видишь, и мы можем пригодиться.
Анна вышла вместе с Анри купить лекарства. Когда за ними закрылась дверь, Люсьен откинулся на подушку и сказал:
— Вечно ему необходимо с кем–нибудь встретиться. — И добавил: — Салонный деятель.
Я боялась оставаться с ним наедине. Я не знала, как завязать разговор, а молчать было невозможно…
— Тобой тут кто–то интересовался в перерыв.
Мне было стыдно собственной глупости.
— Кто? — спросил он с интересом.
— Девушка, которая проверяет замки. Хорошенькая брюнетка.
— Да, да, знаю, — сказал он, не открывая глаз, — девочка без предрассудков.
Он приподнялся и стал искать сигареты. Не найдя, снова упал на постель.
— Мне этого мало.
Я ничего не ответила. Анри ушел, я осталась, он дремал и, видимо, не вполне отдавал себе отчет, с кем говорит.
— К тому же…
Он надолго замолчал. Потом заговорил снова невнятным дремотным голосом:
— Есть люди, которые таят в себе оружие, убивающее любовь, — чрезмерность любви.
— Ты, кажется, философствуешь, — сказала я, смеясь.
— Я несу чушь, да? — Он открыл глаза. — Который час?
— Я ухожу, половина девятого. Лечись, Люсьен. Ты похудел, побледнел.
— Опять ты за свое!..
Он встал. Вернулась Анна.
— Вот, — сказала она. И положила на стол пакетик с лекарствами.
— Сколько это стоило? — спросил брат.
— Три тысячи и… Анри одолжил мне денег.
— Анри?.. Почему бы нет, он поступил похвально, — добавил Люсьен. — Он положил начало великому перемещению богатств.
Подойдя к двери, я оглянулась на них. Свет от лампочки вобрал их в свой круг, как прожектор. Они не сдвинулись с места, когда я повернула ручку. Я уйду, а они останутся во власти магических чар.
Мадьяр вернулся с перевязкой на левом запястье. Он опять стал прикручивать фары.
— Ну как? — всякий раз спрашивал Мюстафа, сталкиваясь с ним.
— Хорошо, — говорил тот.
Через разбитое стекло проникал холодный воздух, и Бернье сказал, чтоб мы, пока стекло не сменят, загородили дыру картоном.
— Вот уже год, как оно сломано, — сказал кто–то.
Мадьяр работал в пиджаке, застегнутом на все пуговицы, воротник блестел от грязи. Я спросила Мюстафу:
— Почему он не наденет спецовку? И вы тоже?
— Что? О чем вы?
— Спецовку, — повторила я. — Холщовую куртку и брюки, как… ну, Доба, например.
— Я не ношу спецовок, — сказал он оскорбленно.
Когда он вылезал из машины, которую я проверяла, показался Арезки.
— Сегодня вечером, ладно? Повидаемся?
Я ответила, что не смогу. Я сказала это сухо, потом вышла и залезла в следующую машину. До полудня он не пытался заговорить со мной. Перед перерывом он сам принес мне тампон с бензином. Я не раскрывала рта; он направился к Мюстафе.
Доба шел по проходу, неся старые картонки от упаковки. Одну он положил возле меня. Чтоб заслонить дыру в стекле.
— Все им разжевал. Остается только вырезать и поставить. В столовку не пойдете?
— Я собиралась погулять.
— Неважно чувствуете себя? Холодно? Трудно? Что–нибудь не так сделали?
Чтоб доставить ему удовольствие, я о чем–то спросила. Мы спустились вместе. Мне это было удобно, не надо было проходить в одиночку мимо крикунов, устанавливавших замки, которые ели тут же в цехе, хотя это и было запрещено, а потом дремали в машинах.
Доба жаловался на ускорение темпа, мешающее работать тщательно.
— И потом, слишком много иностранцев, они ничего не умеют, а научить их нет времени. Вы завтракаете в раздевалке? Поберегитесь, всухомятку есть вредно.
Скамья — моя скамья — была свободна. Я могла сполна насладиться минутой. Неизъяснимое блаженство — неторопливо жевать, время от времени прикрывая веки, отдаваясь мягкому оцепенению, которое постепенно растекается по всему телу.
Я ела и ощущала во рту вкус горячего чая, который мы с Арезки всегда пили во время наших ночных прогулок. Аромат чая смешивался со вкусом хлеба, перебивал его, я пожалела об утреннем отказе. Я так радовалась всему хорошему, даже пустяку, потому что хорошее редко выпадало на мою долю. Люди благополучные, не ведающие лишений, даже не задумываются о природе своего довольства жизнью — настолько оно привычно. Им недоступна пьянящая радость, когда, продрогнув, попадешь в тепло, сытно поешь, выпьешь чашку кофе. Все трудности отступают, чувствуешь себя всесильным, непобедимым только потому, что живот полон и ноги сухи.
Женщины примолкли. Вошла одна из работниц, рыжая, некрасивая, тощая и уже не первой молодости. Она открыла свой шкафчик, повозилась в вещах, потом защелкнула замок и сунула ключ за лифчик.
— Как дела, Ирэн? — спросила одна из женщин.
— Ничего, а ты как?
У нее был голос заядлой курильщицы, вибрирующий на низких долгих нотах, в его звучании было что–то чувственное. Все ее очарование было в голосе, жесткое, угловатое лицо отнюдь не вызывало симпатии.
Ирэн вышла. В группе женщин послышался шепот. Я уловила:
— …она гуляет с алжирцами.
Выражение было общепринятым: гулять с… далее всегда следовало множественное число. Не было ничего оскорбительней: гулять с алжирцами, гулять с неграми…
На мгновение я представила себе, что буду откровенна с товарками. Я делю с ними скамью, я скажу им: разве вас это не удивляет? Что вы думаете об этом? Утром, отказав Арезки, я испытала несколько мгновений тщеславного удовлетворения. Сейчас я охотно взяла бы свое «нет» обратно. Это вы подсказали его мне. Я боюсь вас. Но горячий чай, прикосновение его руки в минуту прощания и наша прогулка во мраке — от этого я ни за что не откажусь.
Завтра они скажут обо мне: «Она гуляет с алжирцами». При этих словах воображению рисовались жалкие трущобы, где женщина переходит из одних объятий в другие.
— Осталось всего две!
Маленький Марокканец сказал это с облегчением. А мне стало грустно, передо мной разверзлась пустота.
Появилась последняя машина. Из нее вылез Арезки.
— Отметьте: пластик разорван. Я слишком сильно натянул, ставя зеркало.
— Я все уладила, я отменила свидание с братом, и мы можем встретиться.
— А?
Он был поражен. Я так быстро все пробормотала, что не была уверена, слышал ли он.
К нам подошли Мадьяр, Мюстафа и маленький Марокканец. Арезки торопливо втолкнул меня в машину.
— Слушай меня хорошо. Поедешь до Сталинграда. Жди меня, не уходя с платформы. Разверни перед собой газету и читай ее. Если выйдет кто–нибудь из заводских, он тебя не заметит.
Я выполнила его инструкции. Он подошел ко мне на платформе станции Сталинград, где я пряталась за высокими листами газеты. Это рассмешило его. Он постучал пальцем по бумаге и сказал; что мы поедем к Терн.
— Это неподалеку от площади Этуаль. Я думаю, там подходящий район.
Арезки был тщательно одет. Белая рубашка, галстук, прикрытый шарфом. Коричневый костюм, лоснившийся от долгой носки, был безукоризненно чист.
Наконец я увидела ночной Париж, Париж почтовых открыток и календарей.
— Тебе нравится?
Арезки забавлялся. Он предложил дойти до площади Этуаль, а потом вернуться по другой стороне. Здесь легко было слиться с толпой, превратившись в элемент декорации. Считать, что ты на своем месте в этом прекрасном городе, быть его частью, быть как все.
Довольно долго мы обсуждали несчастный случай с Мадьяром. Мы оба мерзли. Арезки поглядывал на кафе. «Он наверняка боится, что тут слишком дорого. Получка через три дня, он, должно быть, как и я, почти без копейки».
На обратном спуске к Терн он сказал мне: «Ты озябла», — и мы зашли в кафе с обогретой террасой. Однако он предпочел пройти внутрь, выбрал два места и заказал чай. Все было как обычно. Соседи несколько минут молча разглядывали нас, их мысли не составляли секрета. Я пыталась убеждать себя: «Это же Париж, город изгнанников и беглецов со всего мира! У нас тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год. Неужели я потеряю самообладание из–за чьих–то косых взглядов? Здесь, в богатых кварталах, наше появление скандально. Можно ли обижаться на этих людей?»