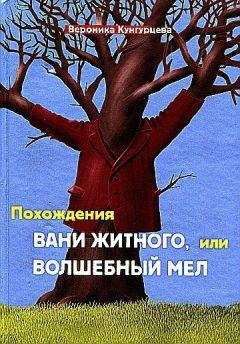Вероника Кунгурцева - Орина дома и в Потусторонье
Сана даже не знал, слышит ли его царица, надежда его была призрачной — такой же, как он сам. Царица, только что опроставшаяся от очередного яйца и тяжко вздыхавшая, повернула к нему безмятежно прекрасное пятиглазое личико, повела крыльями и прожужжала нечто, понятое им как «да». И хотя царица вновь сунула свой зад в подходящую пустую ячейку, с тем чтобы родить очередную будущую дамку, Сана вновь заговорил, интересуясь, а по каким приметам ее многочисленные подданные опознают его подопечную? Царица, произведя на свет яйцо, отвечала, что в царице цариц, или, скорее… в царе царей она видит приметы той, которой он, царь царей, служит, и она, де, в точности передаст их своим пчелам. И добавила: хватит, дескать, отвлекать меня, о, царь царей и трутень трутней, — пора бы и честь знать. Сана откланялся, исполнив народный пчелиный танец серпа и восьмерки-бесконечности.
Точно таким же образом он договорился с одиннадцатью царицами остальных ульев. Оставались еще осы и шершни — но они в облюбованном пространстве были все-таки редкими гостями.
Нюра Абросимова примчалась к подруге и сообщила, что теперь Юлька Коновалова заболела, тоже увезли в Пургу, да еще смолокур Проценко, говорят, хворает — вот что это значит, а, Ефремовна? Стали думать и рядить, могла ли тут приложить свою руку Пандора. И получалось, что могла! Ведь Пандора — чуть не со всеми на ножах: Борька Коновалов тоже одно время к ней хаживал, так что Юлька, изловчившись, выдрала однажды у Пандоры клок ее реденьких рыжих волос, — но, правда, уж давненько это было, лет этак десять назад. Теперь Кузьмич. Тут дознавательницы долго не могли найти никакого компромата, но Пелагея Ефремовна вдруг вспомнила, что один из воровистых Пандориных мальчишек однова обнес у Кристины Проценко все вишенье, и Кузьмич надрал ему уши…
В этот момент раздался стук: Пелагея Ефремовна подхватилась — и к двери, Крошечка бегом за ней, Сана не отставал от них, а Нюра Абросимова вместе с Кереметем, в точности как ядро с цепью, надетым на ее левую лодыжку, — поволоклись следом.
А это — легка на помине — явилась сама Пандора! Пелагея даже рот разинула — до того удивилась: за все соседство конопатая бестия была у нее только пару раз.
Пандора постояла, помигала единственным глазом, отряхнула фартук и проговорила:
— Ефремовна, Павлик у меня шибко занемог — пошли-ко!
И Пелагея Ефремовна, ни слова не говоря, пошла. Только указала Нюре Абросимовой на Крошечку, дескать, останься покамесь, пригляди.
Нюра заохала:
— Павлуша заболел?! Ой, горе-то какое!
Но Пандора зыркнула на нее из-под спустившейся на глаз жуковатой брови — и Абросимова примолкла.
По дороге Пелагея Ефремовна спросила, дескать, а чего ж фельдшерицу не зовешь?
— Ирка не понимат, — кратко отвечала Пандора.
Пелагея была польщена, но виду не показала.
Павлик лежал на черном, ничем не застланном диване и тяжко дышал, лицом был красный, склеры на глазах чуть не лопались и зев был малиновый, но — Пелагея Ефремовна послушала — хрипов в легких нет и сыпи не видать. Градусника в Пандориной «конторе», конечно, не имелось — сбегала домой, сунула под мышку, глянула и охнула: температура 41. Поставила кипятить шприц, чтоб ввести жаропонижающее, и сказала Пандоре, дескать, надо везти Павлика в Пургу, беги скорее, проси лошадь, а пока суд да дело, принялась протирать худенькое тельце уксусом.
Дедушка Диомед на руках снес мальчика в двуколку, где уже сидела мать; Крошечка глядела в окошко, как трогается запряженный Басурман, резво перебирая мохнатыми ногами, едет мимо них. Пандора сидела, согнувшись, обхватив Павлика, голова которого лежала у ней на коленях, а оставшиеся ребятишки молча стояли у крыльца. Галька пробежала немного вслед за уезжающими, в проеме скрещенных столбов остановилась, села на землю и заплакала, спрятав голову в подол.
Пелагея Ефремовна сбегала и отнесла Пандориным ребятёшкам стряпни, дескать, дома-то у них — шаром покати, как ведь волчонки набросились. Касательно диагноза дернула плечом, дескать, она не доктор, а всего только фельдшер по глазным болезням, врачи в Пурге должны определить, что это такое. Нюра Абросимова покачала головой, мол, что-то не больно много определили, что там с Глуховым, да и с остальными… А болеют ведь все одинаково…
— Эпидемия это, — вздохнула Пелагея. — А какая?..
— Если уж в самой Пурге врачи руками разводят — так что-то это неладно, Ефремовна…
— Даже в войну такого не было, — согласилась бабушка.
— А уж не конец ли это света, а, Пелегеюшка?!
Дедушка Диомед, вернувшись из Пурги, привез новые известия: дескать, пургинские-то вызвали врачей из Москвы, и те подсказали — какой-то… щас, на бумажке у меня записано, вот: эн-це-валит у всех наших, вот он всех с ног-то и вали́т — клещ-де заразный объявился, летает и разносит болезнь; больница переполнена — из многих деревень народ везут, многие уж помёрли, а иные калеками останутся, так-то вот! В лес ходить не велено.
— Ой-ой-ой, — вздыхали бабы на магазинном крыльца. — Как же это — в лес не ходить?! Когда весь народ в лесу работает, а лес чуть не в крайних огородах начинается…
Пелагея Ефремовна в магазине скрепилась, смолчала, но только шагнула через свой порог, так и бухнула: дескать, Литва это, не иначе, завезла болезнь! Альгис твой постарался о прошлом годе: выпустил заразных клещей…
— Ой, мама, ты скажешь… — отмахнулась Лилька, читавшая свежий номер «Советского экрана».
— А откуда ж он взялся, этот… как его… энцевалит, сколь живем в лесу, никто и слыхом про такую болезнь не слыхал… И болеть не болели…
— Откуда мне знать…
— Я зато знаю: Лит-ва! С империалистами схлестнулась — и гадит, вот что.
А дяде Венке тем временем наконец-то выделили квартиру в Городе: по Боткинскому шоссе, которое мимо завода «Буммаш», где работал дядя, прямым ходом вело к усадьбе композитора Чайковского. Березняк, росший тут испокон веков, вырубили и ровными рядами выставили пятиэтажные дома.
— Будем в Черемушках жить, — хвалилась тетя Люция. — Вернее бы сказать, в Березняках. Эмилию в садик отдам, после в школу пойдет: с балкона ее видать, больша-я! И булочная рядом, ох, хорошо!
Миля тут же задрала свой кургузый носишко:
— А Илочка-то в садик не пойдет, а я-то пойду-у…
— Орина уж выросла из садика, она в школу зато пойдет, — опередила Крошечку Лилька, завидовавшая горожанке сестре иногда белой, а иной раз и черной завистью.
— А у нас-то балкон есть, а у вас-то нету-у!
На это ответить было совсем нечего.
В доме еще шли отделочные работы, но квартира была уже известна: на четвертом этаже, № 74; чета Яблоковых повезли дочку в Город, чтобы показать Миле место, где она скоро станет жить. Поехали кружным путем, через Агрыз, чтобы лишний раз и носа в лес не казать. Хотя еще на прошлой неделе намечали в этот день всей семьей пойти по грибы — энцефалитный клещ спутал все планы.
Орина загрустила, и Лилька произнесла загадочную фразу:
— Ничего, Крошечка, может, и мы с тобой куда-нибудь уедем. На край света.
Пелагея Ефремовна убралась в конюшню и там всплакнула, чтобы никто, кроме козы да овец, не увидал ее слабости. После прикрикнула на себя: «Не уехали еще, все здесь, заны-ыла, вор-рона бестолковая!» Подоила козу и принесла парного молока Оринке: дескать, пей-ко, а то вон кашляла вчера, как собака…
Крошечка вздохнула: сколько можно! Козье молоко и всегда припахивало, а в этот раз и совсем было противное. Попыталась отговориться:
— Горькое оно…
— Сама ты горькая, — парировала Пелагея Ефремовна.
— И розовое…
— Чего только не выдумает, чтобы не пить, поглядите-ко на нее: теперь молоко у ей розовое! — всплеснула руками Пелагея. — Да полезнее козьего молока ничего во всем свете нет! И не розовое оно — а желтое: это я медком его сдобрила. Копуша — вся в батюшко: тот приехал, сварила манку, так исти не стал — густая-де! Вишь, надо было варить ему, как младенцу — жидё-охонькую! И молоко — вечно скривится: пе-енка… Тьфу! Это у них, видать, вся порода такая: гребливая. Сказывал, что отец с войны матери его письмо прислал, дескать, речку форсировали, перебитого народу было — тьма-тьмущая, река текла кровавая, смешалась кровь наша и немецкая, жарища стояла, пить-то хочется, все пили, а он, де, не смог: побрезговал… Вот и эта — тоже… Вот так! Слава те господи! А то цедит сквозь зубы…
Орина поставила чашку на стол, бабушка же продолжала:
— И в армии Андрей твой не служил, это что — мужик?!
Лилька попыталась вступиться за бывшего мужа:
— У него зрение плохое, потому в армию и не взяли. И плоскостопие еще.
— Плоскосто-опие у него… Тем более не мужик! Давай-ка, Орина, еще кружку — чтоб уж никакая зараза… Вот я меду побольше положу, будет сладко!