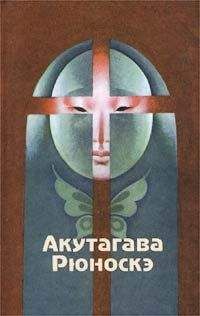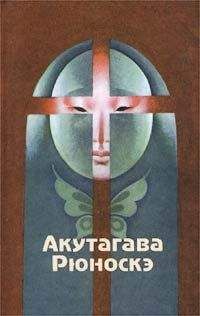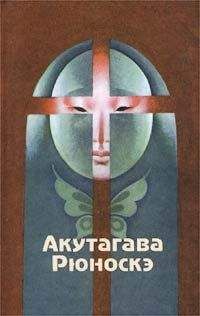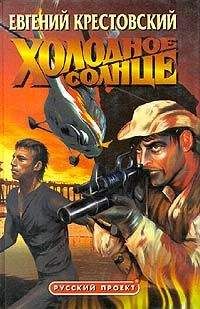Мария Галина - Медведки
Вся эта история со сбором родственников – тоже какая-то афера? Но зачем?
Потенциальные жертвы? Выбранные им из несметного множества однофамильцев по какому-то хитрому признаку? Заведомо одинокие и беспомощные?
Это проще, чем кажется, – укорененные люди не поедут невесть куда встречаться невесть с кем. Не сорвутся с места ни с того ни с сего. У них семья и работа. От них зависят другие люди.
Приедут лузеры. Неудачники. Поскольку на халяву. Все включено.
Приедут познакомиться с сильным человеком. Главой семьи. Защитником.
Приедут доверчивые дурачки.
Одинокие старики.
И я сам невольно оказался пособником. Без меня он не был бы так убедителен. Собственно… это ему от меня и было нужно – убедительность легенды.
Главное – дотянуть до этой пресловутой встречи фальшивых родственников. Неужели я не смогу разоблачить его? Прилюдно. На людях – что он мне сделает?
Я получаюсь по факту соучастник? Или нет?
Трамвай трясся мимо мокрых домов, мокрых черных деревьев, каждое – в колесе желтого света, мимо сверкающих, как подарочные кондитерские наборы, киосков с никому не нужным пестрым хламом, мимо усталых старух в драповых пальто, торгующих с дощатых ящиков зеленью и солеными огурцами…
И не было нигде места, которое я мог бы назвать своим домом…
– И тут он выбирает якорь, а он не выбирается. Выбирает, а он не выбирается. Он, значит, тянет, а со дна тоже что-то тянет. Он думает, зацепился. Рванул. Видно, что-то зацепил такое, что держит. Наконец оно вроде подалось, он, значит, тянет, оно всплывает, разбухшее, страшное.
– Утопленый?
– Я ж говорю. Якорь зацепился за одежду, он и всплыл. Мокрый, глаза белые. Ну мой-то чего, наклонился, к себе притянул и якорь, значит, отцеплять хочет. Хотя и нос зажал. А эта тварь вдруг его за руку – хвать! Между пальцами перепонки. Сама улыбается так…
Мой заорал, веслом ей раз по башке, твари этой. Вали, говорит, отсюда. А та лопочет что-то по-своему. Но он рванулся, она руку-то и отпустила. Он, не будь дурак, обрубил канат, она, значит, якорь обхватила лапами своими, обвилась вокруг него и опять на дно легла. Пришел домой белый весь. Я говорю, Коля, бычков-то хоть наловил? Какие, отвечает, на хрен, бычки? А я уже все для ухи купила, и лаврушку и морковь.
– Ее и Витька видел, Красномордик, Петровны сын. Они в камнях живут, за Южным мысом. Играют там. Кто утоп, раньше просто рыбы
съедали, а теперь вроде оживают они. Это все из-за химии. Аммиачный завод запустили, всякую дрянь сбрасывают, рыба дохнет. А которая не дохнет, та болеет. Вон я купила вчера на Новом рынке, стала потрошить, а из нее черви лезут.
Я обернулся.
Две тетки, сидевшие сразу за мной, сразу смолкли. Как заговорщицы.
И сразу стали пробираться к выходу. Они были в одинаковых дутых куртках, масляно блестевших в свете трамвайных ламп, в пушистых беретах и шарфиках с люрексом.
Я что-то упустил? Может, Ктулху уже проснулся, а я и не заметил?
Или это сговор и Сметанкин отправил каких-то своих подручных следить за мной и потихоньку сводить с ума?
В переулках быстро сделалось темно, я совершенно не помнил, чтобы прошлой осенью или позапрошлой так рано темнело. Я подумал, что надо все-таки написать подробней обо всем, что произошло, и отдать рукопись соседу Леониду Ильичу. Письмо может и не дойти, почтовики вечно путают Дачную улицу и Дачный переулок, а если дойдет, из него ничего не будет понятно. А я напишу обо всем с самого начала, хотя бы какое-то занятие… с тех пор как Сметанкин вышел на меня, у меня не было ни одного нового заказа, словно от меня шел отпугивающий потенциальных клиентов отчетливый душок опасности.
Он из тех, кто допускает возможность невероятного. Он поймет.
А вдруг эта самая Рогнеда, чтобы окончательно замести следы, подожжет дачу? Я вспомнил сгоревшего в окружении своих икон Славика. По обугленному трупу никто не определит, пил ли он клофелин или нет. Наверняка покупатель пришел к нему, предложил спрыснуть удачную сделку…
Если бы не Валька с его жадностью! Не брался бы я за сметанкинскую генеалогию, сидел бы сейчас дома, то есть на даче, лазил бы по форумам и аукционам. Кстати, не сам ли Сметанкин вышел на Вальку с предложением сдать/снять дачу на сезон? И посулил такую сумму, что бедный Валька не выдержал.
Я, наверное, уже никогда не узнаю, как оно на самом деле было.
А вдруг ее нет дома? Вдруг она ушла и не вернется сегодня? Непохоже, чтобы она была домоседкой. Вот было бы облегчение.
В субкультурах все держатся друг за друга, они все для себя – свои, даже если в глаза друг друга не видели, а все, кто их окружает, – чужие, даже если это собственные родители. Почему она, как они это говорят, не вписалась у местных готов? Или веганов? Или, я не знаю, фанатов группы “Квин”?
Потому что ей нужен был я. Именно я.
Никуда она не ушла. В окне, за ветками яблонь, горел свет. Ждет меня. Еще бы.
Может, просто не заходить туда? Пойти к соседу Леониду Ильичу, попроситься у него переночевать? Это уж и вовсе будет странно выглядеть. Тем более его, похоже, нету, вон дача темная, а обычно на веранде окна светятся. Никогда не думал, что так расстроюсь потому что кого-то из соседей нет дома. До недавнего времени я вообще не обращал внимания на соседей, если честно.
Чужая дача. Чужое, враждебное пространство. Декорация.
Я поднес ладонь к звонку, но передумал. В конце концов, это я тут хозяин. Пока еще, во всяком случае.
Тем более дверь была не заперта.
Рогнеда и сосед Леонид Ильич сидели за моим столом и лопали мою еду. И пили виски из заначки, которая у меня была в кухонном шкафу.
И смеялись.
Ну то есть не нагло хохотали, а так, веселились. Леонид Ильич что-то оживленно рассказывал, даже руками размахивал, а Рогнеда слушала, наклонившись вперед, нога закинута за ногу, острая коленка обрисовывается под юбкой.
Я сказал:
– Вообще-то это я тут живу, если вам интересно.
Рогнеда хихикнула. Она, по-моему, порядочно набралась, бутылка виски опустела почти наполовину.
– Он здесь живет, – пояснила она соседу Леониду Ильичу, для верности уставив в меня палец.
– Я зашел вас проведать, – пояснил сосед Леонид Ильич. По-моему ему было слегка неловко. – Утром вы говорили встревожившие меня вещи.
– Он меня испугался, – пояснила Рогнеда. – Он подумал, я его отравлю. Так ведь, Семочка? Клофелином. Он вообще робкий. Другой бы надавал бы по морде мне и выгнал. А он стремается.
Они говорили обо мне, как будто меня тут не было.
– Я тебе дам по морде и выгоню, – сказал я, трясясь от злости, – тварь такая.
– Девушку, – Рогнеда пошевелила чугунным ботинком, – в ночь!
– Зачем вы так, Семен Александрович, – укоризненно сказал сосед Леонид Ильич, – и вы, Недочка, перестаньте его дразнить. У вас довольно специфический юмор, это, знаете, не всякому нравится.
Я послал ему письмо. Он был моей последней надеждой даже не на спасение – на справедливость. На посмертное возмездие.
– Вы бы присели, Семен Александрович, – сказал сосед Леонид Ильич, – неловко как-то. Мы, гости, сидим, а вы, хозяин, стоите.
– Он не ест на людях, – сказала Рогнеда. – Он застенчивый.
– Зачем вы так, Недочка? У любого человека могут быть слабости.
– Она сама не могла в детстве есть на людях, – ответно заложил я Рогнеду, – она мне говорила.
– Но я же с этим справилась! – гордо ответила Рогнеда.
Я сел к столу. Я за стеклом, я их вижу и даже слышу, но это потому, что я хитрый и у меня есть специальное замечательное стекло, кабинка, в которой я для них невидим, зато их вижу отлично. В сущности, у каждого есть такая кабинка. Просто не все это сознают.
Не все умеют пользоваться такой замечательной штукой.
Я положил себе салату и налил виски. Если они оба пьют из этой бутылки, а я налил себе сам, ничего же не может случиться, верно?
– Он мне рассказывал о раскопках, – сообщила мне Рогнеда, – о святилище Ахилла. Тут, буквально в двух шагах, было святилище Ахилла. И он его копал. Ахилл-то, оказывается, был совершенным уродом и жил в яме. Ему приносили в жертву девственниц. Привязывали их к скале.
– Не уродом, а монстром, – поправил сосед Леонид Ильич, – он был по-своему прекрасен. Очень по-своему.
– Теперь бы им было трудновато, – Рогнеда поправила черную прядку, – с девственницами.
Она хихикнула.
– Тогда тоже были вольные нравы. У нас искаженное представление об античной морали. Я думаю, это должность, а не состояние. Они были как бы назначенными девственницами. Тем более перед жертвоприношением практиковали ритуальное изнасилование.
– То есть, прежде чем сплавить беднягу чудовищу, жрецы как следует оттягивались сами?
– Совершенно верно.
Она за все это время ни разу не сказала “зыкински”. Изменила рисунок роли? И, соответственно, словарь?