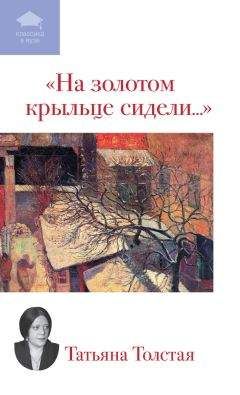Максим Осипов - Волною морскою (сборник)
Входит Майя Павловна:
— Боли не повторялись? Забирайте вещи и во второй кабинет.
— Майя Павловна… — Он хочет спросить про Пурыженского.
— Всё потом.
В кабинете она прикрепляет к груди отца Сергия провода с липкими наклейками на концах, нажимает на кнопки огромной машины, которая стоит посреди всего, — беговой дорожки, по ней ему предстоит ходить. Не хватает медицинских сестер, что-то еще она сообщает, что ответа не требует. К утру Майя Павловна делается более похожа на врачих — на тех замученных женщин-врачей, которых отец Сергий встречал прежде.
Поехали. Сначала будет легко, потом — трудней и трудней.
У соседа его не очень все хорошо, говорит Майя Павловна. Пусть Сергей Петрович сосредоточится на ходьбе, не отвлекается, иначе собьет дыхание.
Дорожка под ним идет чуть быстрей, он продолжает шагать. Пока что справляется.
— Майя Павловна, срочно в реанимацию!
Та срывается с места и то ли рассчитывает быстро вернуться, то ли забывает остановить дорожку. Отец Сергий теперь продолжает свой путь в одиночестве. Угол наклона делается круче, и дорожка бежит быстрей. Каждые несколько минут манжетка у него на руке надувается и сдувается, из аппарата вылезает кардиограмма, он продолжает идти.
Отец Сергий вспотел, особенно голова, приходится уже не идти — бежать. Ноги болят — ничего, отдохнут, хочется больше воздуха, и сердце стучит с огромной силой и частотой, и пот на дорожку капает — жарко, как в печи огненной, но — надо работать, работать, вперед, еще! Можно дернуть за какой-нибудь проводок, и тогда, наверное, все остановится, но, пока есть возможность, он будет терпеть. Так надо, так для чего-то надо.
— Все, стоп! — Она здесь.
Пульс сто семьдесят.
— Более чем достаточно, — говорит Майя Павловна.
Отличные новости: Сергей Петрович здоров, совершенно здоров. Пускай умывается, приводит себя в порядок. Он большой молодец: восемнадцать минут продержался — рекорд кабинета, почти.
А Пурыженский? — Все плохо. Не надо туда.
Она протягивает на прощанье руку. Ему всегда нравилось, когда женщины здороваются и прощаются за руку, это редкость теперь.
Он на улице, вновь предоставлен самому себе.
Марине надо бы сообщить, что он цел, но она еще не проснулась, наверное. Хочется шевелиться, не прекращать движения, и он решает пойти пешком. Хорошо, когда поверхность под тобой неподвижна, и ты сам властен двигаться медленней или быстрей.
Ему часто приходится рано вставать, он любит ощущение ответственности за целый мир, которое появляется, когда идешь через сонный город. Но сейчас он мыслями еще там, в больнице, и не замечает, как оказывается возле дома. Перед ним забор — старый, подгнил кое-где, зато не ломает, не нарушает пространства, дает смотреть далеко кругом. Калитка веревкой завязана: Марина следит, чтобы она хоть как-нибудь закрывалась.
Весна в этом году наступила поздно, и цветы распустились сразу на всех деревьях, многие из которых вроде бы не должны одновременно цвести. Названий большинства из них он не знает. С белыми маленькими цветочками — это что? Дерево или куст? Вот вишни, вот яблоня — одичавшая, каждый август она плодоносит мелкими зелеными яблочками, несъедобными. Перед крыльцом сирень — жаль, скоро кончится. И даже на елке, под которой он вчера похоронил Мону, обнаруживается подобие цветов. Желтое на зеленом, только сейчас заметил. Елки тоже цветут.
Он еще некоторое время оглядывается, потом открывает дверь. На столе начатая бутылка вина и пепельница, в ней много окурков — Марина теперь почти что не курит, но вчера был такой день.
Тихо, чтобы не разбудить ее, он проходит к Марине в комнату, садится к ней на кровать, дотрагивается до ее плеча бородой.
— О Господи, — Марина смотрит на него удивленно. Кажется, рада ему. — Подожди, я оденусь.
— Нет, — говорит он, — зачем?
— Тебе хорошо? Слушай, они не ошиблись? — спрашивает Марина, когда он издает какой-то звук, не поймешь — смех или стон.
Нет-нет, никакой ошибки. Он совершенно здоров.
— А почему ты дрожишь?
Теперь он уж точно смеется, не перепутаешь:
— Поджилки дрожат.
Чудеса, говорит Марина, он совсем не пахнет больницей. Теперь, наверное, ему следовало бы поспать?
И вот он идет к себе, осматривает свою комнату, думает: хорошо бы так было всегда, до глубокой старости. Эти книжки на тесных полках, этот темно-оранжевый плед, протертый уже местами, который он использует как покрывало. Греческая иконка у изголовья — тоже в красно-желтых тонах. Так бы до старости. Хорошо, что еще есть время. «Бог и баба» — вспоминает он отца Льва. Хорошо быть живым. Закрывает глаза, думает про соседа-писателя: ненаписанного как бы нет.
С чего начать? У священника была собака…
октябрь 2012 г.Человек эпохи Возрождения
Кирпич
Сероглазый, подтянутый, доброжелательный, он просит меня рассказать о себе.
Что рассказывать? Не пью, не курю. Имею права категории «В».
От личного помощника, говорит, ожидается сообразительность.
— Позвольте задать вам задачку.
Хозяин барин. Хотя, что я — маленький, задачки решать?
— Кирпич весит два килограмма плюс полкирпича. Сколько весит кирпич? Условие понятно?
Чего понимать-то?
— Четыре кг.
До меня ни один не ответил. Так ведь я по второй специальности строитель.
— А по первой?
А по первой пенсионер. В нашей службе рано выходят на пенсию.
Виктор, вроде как младший хозяин, я покамест не разобрался:
— Пенсия маленькая?
Побольше, чем у некоторых, а не хватает. Главный ставит все на свои места:
— Анатолий Михайлович, вы не должны объяснять, для чего вам деньги.
Я вообще-то Анатолий Максимович, но спасибо и на том. В итоге он один меня тут — по имени-отчеству, а Виктор и обслуга вся, те Кирпичом зовут. Ладно, потерпим. Главное, взяли.
Высоко тут, тихо. Контора располагается на шестнадцатом. Весь этаж — наш. А на семнадцатом сам живет. Выше него никого нет. Кабинет, спальня, столовая, зала и этот — жим, джим.
— Лучше шефа сейчас никто деньги не понимает. — Слышал от Виктора. — Мне, — говорит, — до него далеко пока.
Виктор — небольшого росточка, четкий такой, мускулистый. Я сам был в молодости как он. Заходит практически ежедневно, но не сидит. На земле работает, так говорят, — удобряет почву. Проблемы решает. Какие — не знаю. Мои проблемы — чтоб кофе было в кофейной машине, лампочки чтоб горели, записать, кто когда зашел-вышел. Хозяин порядок ценит — ничего снаружи, никаких бумажек, никакой грязи, запахов. Порядок, и в людях — порядочность.
— Наша контора, — говорит Виктор, — одна большая семья. Кто этого не понимает, будет уволен. Так-то, брат Кирпич.
Два раза мне повторять не надо.
Я — сколько здесь? — с августа месяца. Большая зала, переговорные по сторонам, кухонька, лестница на семнадцатый. Тихо тут как в гробу. Мировой финансовый кризис.
Сижу в основном, жду. Чего-чего, а ждать мы умеем. Смотреть, слушать, ждать.
У богатых, как говорится, свои причуды: шеф вон — на пианино играет. Все правильно, в Америке и в семьдесят учатся, только мы не привыкли. Завезли пианино большое, пришлось стены переставлять. Надо так надо. Я ж говорю, у богатых свои причуды.
Ходят к нам — Евгений Львович, хороший человек, и Рафаэль, армянин один, музыку преподает. Виктор называет их «интели». Интеллигенция, значит. Только если Евгений Львович, чувствуется, действительно человек культурный, то Рафаэль, извините, нет. Вот он выходит из туалета, ручками розовыми помахивает и — к Евгению Львовичу. На меня — ноль внимания, будто нет меня.
— В клозете не были? Сильное впечатление. — Разве станет культурный человек о таких вещах? Тем более с первым встречным. — А вы, позвольте спросить, с патроном чем занимаетесь?
— Я историк… Историей. — Евгений Львович оглядывается будто провинился чем. Вид у него — не сказать чтоб здоровый, очки прихвачены пластырем. И каждый раз так — задумается и говорит: «Все это очень печально».
А хозяина стали они звать патроном. Патрон да патрон.
— Давно, Евгений Львович, с ним познакомились?
Чего пристал к человеку? Ты сам с Евгением Львовичем познакомился только что. Урок кончился — и давай топай.
— В конце октября. На Лубянке, у камня. Знаете Соловецкий камень?
— Ага, — говорит Рафаэль. — А что он там делал?
Ох, какие мы любопытные, всюду-то мы норовим нос свой просунуть! Не нравится мне Рафаэль. Хотя я нормально в общем-то ко всем отношусь. Кто у нас не служил только.
— Шел мимо, толпа, подошел… — отвечает Евгений Львович.
Потом патрон домой его повез, в Бутово. О, думаю, Бутово. Мы соседи, значит.

![Эдгар Берроуз - Лунные люди [= Люди с Луны] [The Moon Men]](/uploads/posts/books/55638/55638.jpg)