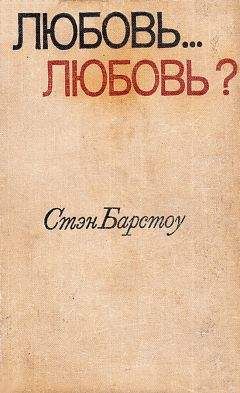Нил Шустерман - Бездна Челленджера
— Что-то потерял, потерял?
Пронзительный крик попугая заставляет меня подпрыгнуть. Проследив, откуда идет звук, я замечаю птицу прямо на голове у Каллиопы. Статуя не пытается ни стряхнуть с себя непрошеного гостя, ни схватить его руками. Не знаю, догадывается ли попугай, что она живая. Может быть, она остается неподвижной, потому что хочет сохранить это в тайне.
— Ничего особенного, — отвечаю я, зная, что отделаюсь от него не раньше, чем придумаю убедительный ответ. Я снова опускаю взгляд на решетку: — Мне просто интересно, что там.
— Склад, — произносит птица. — Склад-кладовка-спад-готовка, — подражает она голосу штурмана и смеется, довольная собой.
Вышло, кстати, совсем непохоже. Тон, может, и такой, но не ритм. Ритм-Рим-роман-баран. Так гораздо лучше.
— Будь начеку! — напоминает попугай. — Помни: не все то золото, что блестит. И не забывай, что я говорил о капитане. Что может понадобиться.
— Баранина-мычание-молчание-отчаянно, — отвечаю я, посрамив его искусство подражания.
— Прекрасно, прекрасно! — произносит птица. — Я верю в тебя, матрос Босх. Верю, что ты поступишь правильно, когда нужно будет поступить правильно. — И улетает в сторону вороньего гнезда.
Вечером попугай включает баранину в меню, чтобы напомнить мне о нашем разговоре. Не знаю уж, откуда в море овцы — боюсь, как бы это не оказалось что-то совсем другое.
105. Вразрез
— Можно видеть мир по-разному, — рассказывает доктор Пуаро в один из дней, когда я способен переварить его слова, а не выплюнуть обратно ему в уши. — У всех есть свои иллюзии. Кто-то видит в мире только зло, кому-то он кажется довольно неплохим местом. Одни видят бога в каждой мелочи, другие видят на его месте пустоту. Где правда? Где ложь?
— Почему вы спрашиваете меня?
— Я просто напоминаю, что твои иллюзии идут вразрез с реальностью.
— А если меня они устраивают?
— Да, они могут быть очень, очень завлекательны. Но за жизнь вдали от реальности приходится дорого платить.
Доктор выдерживает паузу, дожидаясь, пока я проникнусь его словами. Только в последнее время слова не проникают в меня, а остаются на поверхности.
— Мы с твоими родителями, как и весь наш персонал, желаем тебе добра. Мы хотим помочь тебе выздороветь. Мне нужно знать, что ты нам веришь.
— Какая вам разница, кому и чему я верю? Вы все равно это сделаете.
Пуаро кивает и улыбается мне с чем-то вроде иронии, хотя противный голосок в голове твердит мне, что это зловещая улыбка. Голоса можно приглушить лекарствами, но до конца их не заткнешь.
— Я верю, что вы хотите мне помочь, — говорю я. — Но через пять минут, быть может, уже не поверю.
Такой ответ его устраивает:
— Твоя честность поможет в лечении, Кейден.
Я злюсь, потому что не заметил, что был честен.
Вернувшись в палату, я спрашиваю Хэла, верит ли он, что все здесь делается для нашего же блага.
Штурман долго не отвечает. С тех пор, как приходила его мать, он еще асоциальнее обычного. Видимо, здесь есть закономерность. Ему увеличили дозу антидепрессантов, и это, похоже, совсем не помогает от депрессии, но хотя бы дает о ней забыть.
— То, что они делают, не влияет на цену чая в Китае, — наконец отвечает он. — Или, если уж на то пошло, на цену китов в Индии.
— Или, — добавляю я, — на цену индейки в Дании.
Хэл строго смотрит на меня и грозит пальцем:
— Не впутывай сюда Данию, если не готов к последствиям.
Я не готов — и больше стран не называю.
106. Наша прежняя оболочка
Мы с Калли проходим терапию в разных группах. Я прошу, чтобы меня перевели к ней, но сомневаюсь, что тут выполняют такие просьбы.
— У вас наверняка все то же самое, — говорит она за завтраком. — Разве что наши все здесь не по первому разу. Может быть, мы чуть менее наивны. Раньше нам хватало самоуверенности думать, что больше мы в это место не попадем. Теперь мы не такие самонадеянные. Или сыты по горло. Или и то, и другое одновременно.
— Хэл здесь не впервые, а он ходит в мою группу, — замечаю я.
— Может, его и выписывали пару раз, — отвечает Калли, — но мне кажется, что его первый раз никогда толком не кончался.
Я вместе с ней смотрю в окно, когда могу. Когда мои ноги позволяют мне стоять на месте.
Сегодня Калли любуется миром, а я рисую в блокноте все, что в голову взбредет. В нарушение всех правил мне разрешили выносить фломастеры из комнаты отдыха. Думаю, это значит, что я начинаю выздоравливать. Хотя к карандашам меня по-прежнему не подпускают. Мягкими кончиками фломастеров можно нанести меньше вреда, как намеренно, так и случайно.
Иногда мы разговариваем, иногда молчим. Порой я беру ее за руку, хотя, по-хорошему, не должен. Прикосновения под запретом. Общаться здесь можно либо словами, либо вообще никак.
— Мне нравится, когда ты так делаешь, — говорит однажды Калли. — Это помогает мне не провалиться.
Я не спрашиваю, куда провалиться. Если захочет, сама расскажет.
У Калли холодные руки. Она говорит, что это просто особенность кровообращения:
— Это наследственное. У мамы то же самое. Она может охладить лимонад, пока несет его.
Я не против исходящего от нее холода. Мне обычно, наоборот, слишком жарко. И потом, ее рука быстро нагревается, когда я держу ее в своей. Мне нравится, что я так на нее действую.
— Я здесь третий раз, — признается Калли. — Уже третий эпизод.
— Эпизод?
— Так это называют.
— Уже на минисериал наберется.
Девочка улыбается, но не смеется. Я ни разу не слышал ее смеха, зато у нее очень искренняя улыбка.
— Мне сказали, что я смогу отправиться домой, когда буду готова отойти от окна.
— И как успехи? — спрашиваю я, эгоистично желая, что она ответит: «Плохо».
Вместо ответа Калли признается:
— Больше всего на свете я хочу выбраться отсюда… но иногда дома гораздо хуже, чем тут. Это как прыжок в холодное море в жаркий летний день. Ты очень хочешь нырнуть, но боишься очутиться в ледяной воде.
— А мне нравится.
Девочка с ухмылкой оборачивается и сжимает мою руку:
— Ты ненормальный! — Она снова принимается изучать вид за окном. Сегодня внешний мир неподвижен. Ни единому ястребу не пришло в голову поохотиться на кроликов.
— Дома все ждут, что ты вернешься здоровым, — объясняет Калли. — Они говорят, что понимают, но на самом деле понять тебя могут только те, кто тоже побывал здесь. Все равно как если бы мужчина утверждал, что понимает, каково это — рожать. — Она на мгновение оборачивается ко мне. — Тебе никогда этого не понять, так что даже не притворяйся.
— Я не притворяюсь. В смысле, не буду. Но я отчасти знаю, каково быть тобой.
— Верю. Но дома тебя не будет рядом. Только родители и сестры. Они все считают, что медицина всемогуща, и злятся на меня, когда это не так.
— Сочувствую.
— Но если мне удается это выдержать, — продолжает девочка, — я в конце концов привыкаю. Я нахожу себя-прошлую. Все мы это делаем — находим себя. Но с каждым разом это дается все сложнее. Проходят дни, недели, пока мы врастаем в нашу прежнюю оболочку. Мы собираем себя по частям, и все идет своим чередом.
Я вспоминаю Скай и частичку ее пазла. Я храню синюю деталь в кармане как напоминание, хотя не помню, о чем она должна напоминать.
107. Каморка на полубаке
Штурман, может, и гений, но я не рискую спрашивать его, как бы мне пробраться на бак, потому что он, вдобавок, слишком любопытный. Ему захочется узнать, что я задумал. Я не рассказывал ему о Каллиопе, потому что он не умеет хранить секреты. Он вдохновится моим рассказом, начнет говорить рифмами и ассоциациями, и весь корабль все поймет. Кроме того, сейчас у штурмана особенно плохое настроение. Он начал избегать меня так же, как избегает остальных. Говорит, что я вредный и подозрительный.
Вместо этого в полночь я отправляюсь искать Карлайла. Он моет палубу на корме, около бизань-мачты, очищая ее от грязи и приблудных мозгов.
— Бак? — переспрашивает он с видом морского волка. — Что ты там забыл?
— Просто интересно, что там.
Он разводит руками:
— Там хранятся швартовы. Хотя мы так долго не видели берега, что я бы не удивился, если бы канаты успели переродиться в разумные формы жизни.
— Если бы я захотел туда забраться, где можно найти ключ?
— Зачем тебе?
— Есть причины.
Уборщик вздыхает и оглядывается вокруг: не следят ли за нами? Он уважает мои секреты и больше не пристает с расспросами:
— От того замка есть только один ключ, и он у капитана.
— И где капитан его хранит?
— Тебе не понравится, — предупреждает Карлайл.
— Все равно скажите.
Мгновение уборщик разглядывает серые хлопья мыльной пены в ведре, потом произносит:
— За персиковой косточкой в его пустой глазнице.