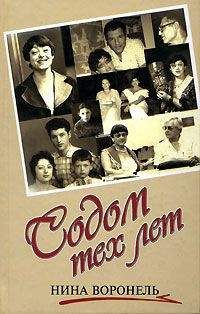Нина Воронель - Тель-Авивские тайны
— Почему это нас всех под домашний арест?
— Она хотела сбежать, пусть она и сидит под арестом!
— Мы-то тут при чем?
— Знаю я вас, блядей, — сказал Женька, — все вы одним миром мазаны: сегодня одна в окно лезет, завтра — другая.
— А ты плати, как договаривались, — всхлипнула сероглазая дылда, которую все называли Танюша-Хныкуша, — никто и не побежит.
— А я не плачу, что ли? — огрызнулся Женька. — Вон у вас чемоданы от долларов лопаются.
— Но треть ты нам еще не доплатил! — отпарировала Зойка.
— А ты помалкивай, сучка, я твою роль в этом побеге еще не выяснил, — ответил Женька, и Дина потянула Зойку прочь из салона.
На Дине было кимоно с длинными рукавами. Когда она подняла руку, рукав соскользнул к плечу, и я увидела на ее золотистой коже два огромных черных синяка. И тут до меня дошло, что это Дина пыталась убежать, — конечно, она! — уж ей-то точно было тут не место! Дина перехватила мой взгляд, и губы ее опять дрогнули предостерегающе — молчи!
Молчать я умею — хранение тайн стало моей второй профессией, если первой считать мытье полов, а хоровое пение списать как хобби. Сперва я скрывала от мамы, что развожусь с Поэтом — она его терпеть не могла, но разводов не одобряла. Маму за это время выставили на пенсию из больницы, где она 20 лет заведовала кардиологическим отделением, и она из разряда просто красоток перешла в разряд бывших красоток. Такой переход не способствует ни улучшению характера, ни расцвету материнской любви. Так что возвращение от Поэта к маме не сулило мне ничего хорошего. Но жить с Поэтом я тоже не могла — он был человек крайне нервный, а я даже врагу своему не пожелаю оказаться в постели с нервным мужчиной, на неустойчивую психику которого давят возлагаемые на него с юности большие надежды. Деваться мне было некуда, и, в конце концов, я сбежала из писательского дома назад к маме.
Поселившись с мамой, я стала скрывать от нее своих промежуточных кавалеров, так как она совершенно помешалась на идее бабского соперничества со мной. Стоило мне привести кого-нибудь в дом, как она тут же надевала свое самое завлекательное лицо и начинала смеяться мелким горловым смехом, который был бы неотразим, если бы она была моя дочь, а не я — ее.
Потом я долго скрывала от нее Никиту — предвидя ее реакцию на его молодость и художественную неустроенность. Но скрыть его навечно было невозможно, и в один прекрасный вечер мне пришлось привести его и выдавить из себя:
— Мама, познакомься, это мой новый муж.
Мама на секунду оцепенела, а потом подбоченилась, приподнялась на носках и запела, вихляя задом:
По аллеям цветущего парка
С пионером гуляла вдова,
Пионера вдове стало жалко,
И вдова пионеру дала.
Отчего, почему, растолкуйте вы мне,
Пионеру вдова отдалась?
Потому что у нас каждый молод сейчас
В нашей юной, прекрасной стране!
Надо отдать должное Никите, он не растерялся. Он улыбнулся ей своей кроткой улыбкой и спросил:
— Когда это мы с вами гуляли по аллеям цветущего парка?
— При чем тут я? — исключительно глупо спросила мама.
— Вы ведь тут единственная вдова, — невинно пояснил Никита. — Я еще жив, и Поэт, насколько мне известно, тоже.
— Господи, где ты его нашла? — спросила мама, явно смягчаясь.
— Во Дворце пионеров, — сообщил Никита.
Это была чистая правда: он делал декорации к спектаклю, который разыгрывали во Дворце пионеров мальчики из моего хора.
Чувство юмора у мамы с годами не увядало— она засмеялась своим мелким горловым смехом, я поняла, что Никита ее покорил. Настолько покорил, что я даже блажила мыслью нагрянуть домой в разгар рабочего дня и застукать их на месте.
Но с переездом девок в заведение на постоянное жительство Женька ввел новый распорядок дня и мои шансы незаметно сбежать практически свелись к нулю. Оказалось, что он умудрился снять квартиру, смежную с нашей, входную дверь которой замуровал наглухо и пробил новую дверь в стене, разделяющей кухни обеих квартир. Как я этих приготовлений не заметила, каждый день убираясь во всех углах, ума не приложу — видно, он немало усилий для этого приложил. А значит, были у него веские причины сделать это быстро и тайно.
В новом помещении были спальни для девок, каждая на двоих, два туалета и большая кухня — там я должна была убирать с трех до шести, когда у них начинался рабочий день. За это мне полагались дополнительные часы с надбавкой 25%.
Это было очень даже кстати, чтобы внести первый взнос за Никитину печь, но это связывало меня по рукам и ногам, так как из заведения был теперь единственный выход, который в рабочие часы девушек охранял мрачный Тамаз, а пока они спали, был заперт на специальный замок с сиреной и секретным набором, как сейф.
Вообще все у нас теперь было закрыто и запечатано, — похоже, что внезапный переезд под одну крышу был вызван чрезвычайными обстоятельствами, которые ставили под угрозу все Женькино славно налаженное дельце. Девок никуда не выпускали ни ночью, ни днем, — кроме меня, к нам входили только клиенты, да и тех записывали по телефону и впускали по особому списку. Продукты и выпивку привозил лично Женька, он же открывал мне дверь в семь утра, а ровно в шесть вечера являлся за мной в спальни и проводил через кухню к выходу. Я должна была уходить не прощаясь и не оборачиваясь, как жена Лота. Но за то, что я однажды обернулась некстати — при обстоятельствах почти столь же драматичных, как у жены Лота, — я не превратилась в соляной столб, а всего лишь потеряла работу и села на пособие по безработице.
А случилось это из-за Дины, у которой все в жизни должно было быть только как повесть о первой любви, потому что второй, по ее принципам, человеку не полагалось. у меня с Диной и Зойкой сложились какие-то нелепые отношения, как в приключенческих романах для самого непритязательного читателя. При случайных мимолетных встречах мы смотрели друг сквозь друга, словно не видя. Ничего бы особенного в этом не было, поскольку мне с девушками нашего заведения общаться не полагалось. Я поначалу и не общалась — мне хорошо платили за то, что я умела держать язык за зубами.
Но долгие часы в запечатанном помещении даже заключенного и тюремщика могут бросить друг другу в объятия, а уж простой уборщице в бардаке никак не уклониться от некоторой интимности с девицами. Главной моей подружкой стала Платиновая. В первый же день, только я стала стелить постели, она вбежала в спальню, достала из тумбочки шприц, ловко затянула зубами резинку над локтем и всадила иглу себе в вену Минуту она постояла, прислонясь к дверному косяку, на лбу у нее выступили крупные капли пота. Потом она тряхнула своей платиновой челкой и попросила:
— Только ты не болтай о том, что я на привязи, ладно?
Потом оказалось, что Танюша-Хныкуша тоже колется, Марина любит менять наряды по три раза в день, а Лидия страдает от мигреней. И каждая жаждет рассказать мне драму своей жизни во всех деталях. Мне болтать с ними было любопытно, хотелось чуть-чуть прикоснуться к тому темному, тайному, запретному, что вершилось совсем рядом, за запертой дверью. Я иногда пыталась себе представить, что там делается. Комнаты я знала до мельчайших подробностей, и мне ничего не стоило их населить и озвучить. Порой оттуда доносился смех, порой прорывалась музыка, и я чувствовала себя Золушкой у плиты — я тут грязь выгребаю, а они там, небось, пьют, танцуют, веселятся.
Это было, конечно, очень глупо — девки со мной иногда делились такими подробностями, что не позавидуешь. Только Дина и Зойка меня избегали и ни разу не зашли в спальни поговорить, когда я там убиралась. А мне что, я на дружбу с ними не напрашивалась — у меня своих забот был полон рот. Никита после покупки печи погрузился в творческий экстаз так глубоко, что у него начались нелады с мамой. Он жаловался, что мама бестактно нарушает его творческий процесс. А мама сосредоточила свою ненависть на его скульптурах, — ее обижало, что печью Никита интересуется больше, чем ею.
Мне бы радоваться такому обороту, но в каждой радости есть свой подвох. Они непрерывно жаловались друг на друга, но разделить их было невозможно — на съем наших несчастных двух комнат уходила вся мамина пенсия и почти половина моих заработков.
У Никиты как раз начался период отрицания женского начала, и он создавал корявых мужиков с огромными