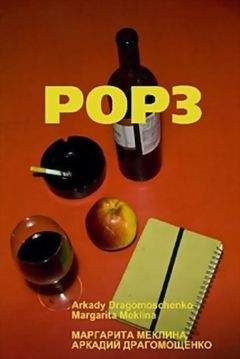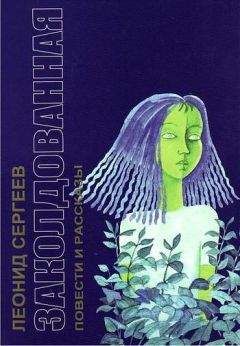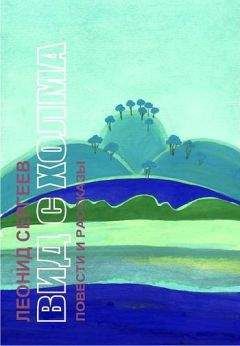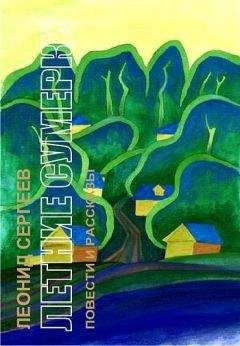Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 10 2004)
Картинка съезжает вбок, чтобы уступить московскому пейзажу. Сгущается вечер. Сначала загораются фары, затем уличные фонари, за ними — окна, а светофоры горят всегда. “Вы точно решили, Шпулин? Нам нужны хорошие военные переводчики. С вашими-то способностями... Ну-ну, вижу по глазам. Нет так нет. Но мы не прощаемся?”
Шпулин деланно улыбается. В такие моменты он особенно остро ненавидит большевиков.
...Маленький, смешной, страшный, как детский гробик, кабинет академика Трошева. Седой старик смотрит на него с прищуром, как и следует смотреть на очередную советскую сявку. “Так вы, говорите, Шекспир? И к чему вам тогда, простите, русская литература? Впрочем, есть же связи... Скажите, вы находите удачным аверкиевский перевод того места из Гамлета — ну, где the time is out of joint?” — “Не нахожу, — дерзит Шпулин, — как это у него там? „Наше время сорвалось с петель, подлое коварство!.. О, лучше бы мне вовсе не родиться” — дешевая риторика, для девяносто пятого года уже поздновато. Даже у Кроненберга лучше: „Ни слова боле: пала связь времен! Зачем же я связать ее рожден?” По крайней мере короче и точнее, а ведь это тысяча восемьсот сорок четвертый... Впрочем, у Ка Эр...” В выцветших глазах профессора обозначается интерес. “Порвалась цепь времен; о, проклят жребий мой! Зачем родился я на подвиг роковой!” — с ехидцей цитирует Виталий Игнатьевич, пролистывая в памяти изящный томик сочинений великого князя. “Очень похоже у Радловой: „Век вывихнут. О злобный жребий мой! Век вправить должен я своей рукой...” Гммм. Неплохо. Приходите завтра”, — Трошин демонстративно склоняется к разложенным на столе бумагам...
Наплывом ассоциация: Шпулин стоит на кафедре, рассуждая перед студентами о символике образного ряда у Шекспира. “...Вывих может быть только у человека. Время традиционно, с античности, представлялось в виде старца, конкретнее — Сатурна, он же Хронос. Таким образом, вывихнута рука у Хроноса. Вообще базовые метафоры у Шекспира гораздо более зрительны, материальны, чем хотелось бы нашим доморощенным эстетам...”
С первого ряда вспыхивают злым зеленым огнем глаза Инги. Она недавно открыла для себя Бурлюка, Хлебникова и беспредметную метафору. Она презирает этого рыжего доцента, который читает им английскую литературу. Она ходит на все его лекции. После этой лекции она наконец скажет ему все, что думает о нем и о его понимании Шекспира...
Они встречаются каждый день. Сначала — прогулка: Инга любит вечернюю Москву. Вот она смеется, показывая ему советский уродец-новодел — дом с огромными террасами а-ля Италия, какой она могла бы присниться гоголевскому Поприщину. Впрочем, Гоголь любил Рим — но Рим настоящий. Здесь же в лучшем случае — Рим третий, то есть третьесортный... Террасы два на четыре метра покрыты льдом. Ничего, голубка Эвридика, такова судьба русской культуры. И живая ласточка упала на горячие снега. Ты помнишь, откуда?.. Инга заговорщицки улыбается. В небе мелькает звезда.
...Из-под верблюжьего одеяла торчат голые коленки. “Ты маленькое теплое дерево, я засуху твою намочу”, — Инга щекочет губами ухо, слова проваливаются куда-то вниз, минуя сознание, не оставаясь в памяти надолго. Не помнить. Стереть. Забыть.
...Стандартный советский кабинет. “Вы мне говорили насчет военного перевода...” Глаза человека за столом прищуриваются. “Разочаровались, значит, в академической науке?” Правильный ответ — отрицательный. “Нет, не разочаровался. Просто просиживать штаны на кафедре я могу и в свободное время. Свободное от настоящей работы”. — “Хорошо. Идите. Мы с вами свяжемся”. Картинка меркнет...
Гоголевский бульвар. Памятник Гоголю работы Андреева, сливающийся с темным фоном. Шпулин проходит мимо не задерживаясь: завтра ученый совет, надо быть готовым ко всему.
Еще несколько картинок вспыхивают и сгорают в голове. Задерживается такая. Зеленая лампа, прозрачная стеклянная пепельница. Виталий Игнатьевич где-то слышал, что все пепельницы такого вида делаются на каком-то гэбэшном заводике. Они стеклянные, потому что Берия боится, что в пепельницу можно встроить маленький звукозаписывающий аппарат. Видимо, такие уже есть. Какая все-таки гадость. Внутри пепельницы — одинокий окурок. Золотой ободок вокруг фильтра. Запомнить марку — в шпулинском знаменитом портсигаре таких нет... “Мы тут посоветовались с товарищами и решили вас взять. На пробу...” Сидящий за столом лыбится, бликуя золотыми зубами. Картинка улетает в никуда.
...Консерватория. Девушка и альт. Немыслимо эротические движения смычком. Альт послушно стонет и вскрикивает, как дорогая кокотка. Да, все-таки в академической музыке что-то есть.
...Ресторан. Невкусный шашлык, облитый ткемалевым соусом. Проклятая кавказская кухня, насаждаемая кремлевским горцем, успешно вытесняет русский стол. Все уже изрядно пьяны. Молодой русист Пыжев пытается по памяти воспроизвести что-то из Льва Николаевича. Шпулин машинально поправляет цитату, потом вдруг задумывается, по какому изданию он это цитирует. За десять секунд он успевает пролистать в голове все известные ему варианты исходного текста. Хм, такого варианта нет. Услужливая память делает еще несколько оборотов, после чего выдает первоисточник: Вересаев. Из этого следовало, что Пыжев самого Толстого не читал. Или, возможно, читал — но уже после Вересаева. Виталий Игнатьевич наливает себе водки, отчетливо понимая, что гуманитарная наука в этой стране заканчивается. Если они все такие... Водка теплая. Шпулин плачет.
...Раннее зимнее утро. Машина у подъезда.
* * *
Конечно, на самом-то деле все это было совсем не так просто. На всякие предварительные действия ушло года три и столько же на саму карьеру. И то, если бы не Неодолимая Сила и ее помощь (которую Шпулин никогда не переставал ощущать), он, наверное, бросил бы это занятие — до того оно выглядело бесперспективным.
Задача стояла все та же — найти Второй Том “Мертвых душ”. Логичнее всего было бы предположить, что большевики попросту его уничтожили. Неодолимая Сила, однако, настаивала, что книга не уничтожена, а именно спрятана. Вопрос был лишь в том, как именно его прячут и где. Здесь были два варианта. Либо Второй Том поэмы вместе с прочими опасными для большевиков бумагами замурован в какую-нибудь бетонную стену (с них станется). Этот вариант отпадал сразу, потому что делал текст недоступным, а откровение бессмысленным. Либо он лежит в каком-нибудь архиве и с ним работают. Что могут делать коммуняки с текстом Второго Тома гоголевской поэмы, Виталий Игнатьевич понять не мог. Наверное, что-нибудь мерзкое. Неодолимая Сила на этот счет ничего не говорила. Она хотела, чтобы Шпулин искал — и нашел.
Литературоведческое сообщество представляло из себя то самое, чего он и ожидал, — сборище несчастных, запуганных людей, больше всего на свете опасавшихся ненароком не вписаться в роковые извивы Генеральной Линии (Виталий Игнатьевич ощущал ее почти физически — как холодную, скользкую, ядовитую змею, главную противницу Неодолимой Силы, которой он служил). Военные переводчики и разведаппарат были чуть более перспективны — но чутье подсказывало ему, что копать надо не здесь. Впрочем, беспокоиться было не о чем: течение уже подхватило его и понесло вглубь. Он прошел через две проверки (первая из них восстановила настоящую фамилию и биографию его отца — жалкий улов, — а вот вторая обошлась ему в пару-тройку седых волосков) и несколько задушевных бесед с гэбистскими людознатцами, пытавшимися распотрошить ему душу на предмет каких-нибудь следов нелояльности. Подписал полагающееся количество бессмысленных бумажек: все эти “спецпропуска” и “особые разрешения” выдавались в обмен на “подписки”, “личные заявления” и прочие клятвы на крови. “Хорошо хоть на крест плевать не заставляют”, — думал Виталий Игнатьевич.
Пробравшись почти в самый центр паутины, Шпулин почувствовал что-то вроде разочарования. Тайны, к которым он был допущен, оказались однообразными, как дешевые порнографические открытки для гимназистов. Он сидел над бесконечными простынями секретных документов, а память послушно наматывала на свои серые веретена кудель разбойни-чьей шпионской цифири.
Это была нудная, изматывающая и совершенно бессмысленная деятельность. Но он терпел, потому что чувствовал: он находится где-то близко.
Наконец после еще одного купания в жупеле и сере (на сей раз с ним беседовали профессиональные психологи, так что пришлось жарко — спасибо Неодолимой Силе, выручила, да и память не подвела, так что все обошлось) он был представлен полковнику с нежной фамилией Лизолькин, неофициальному руководителю Комиссии по возвращению, она же — “Отдел 1-95”.