Дэвид Стори - Сэвилл
Приходил отец, серьезным голосом говорил:
— Как поживаешь, Джек? — и пожимал ему руку, прежде чем сесть к столу, а иногда добавлял: — Чаем тебя хоть напоили?
— Закипает, Гарри, — объявлял он, снова хлопал в ладоши и поглядывал на мать. — Жалко, что я не шахтер, честное слово. Сражаться на внутреннем фронте, чего уж лучше.
— Да я с тобой хоть сейчас поменяюсь, — говорил отец. — Раскатываешь на грузовике и горя не знаешь. Покрышка лопнет — вот и весь твой риск.
— Не беспокойся. Они к нам на аэродром каждую ночь наведываются, — говорил дядя.
— Что-то не похоже, чтобы он беспокоился, а, папаша? — говорил отец, а дед качал головой и спрашивал:
— Ты нам чего-нибудь привез, Джек? Что там у тебя в грузовике?
Они шли к грузовику и заглядывали внутрь. Иногда дядя говорил:
— Давай, Колин, лезь сюда. — И они усаживались на широком сиденье, пахнущем бензином и автолом. Стивен пристраивался у Колина между коленями, а мать говорила:
— Ты далеко их не вози, Джек. Скоро обед.
— Только по поселку прокачу, — отвечал дядя, перекрикивая рев мотора, и газовал, чтобы он скорей прогрелся, будоража обитателей соседних домов.
Он всегда гнал машину. Они трогались рывком под визг шин и точно так же останавливались. Из-за маленького роста дядю снаружи почти не было видно. Он подкладывал под себя подушку, но все равно привставал, чтобы лучше видеть дорогу, подтягивался за руль и перед каждым поворотом говорил:
— Ну-ка, ну-ка, что там такое?
А если кто-нибудь оказывался на дороге, он кричал в окошко:
— Нет, вы только посмотрите, ходить не умеют, не то что ездить!
— Как он был Полоумный Джек, — говорил отец, когда они возвращались, — так полоумным и остался.
— Что есть, то есть, — говорил дядя, а если отец спускался вниз, вздремнув перед ночной сменой, говорил. — Только почему вы ложитесь и встаете не как люди? Я ведь к вам еду и думаю: ты на работе, а моя красавица-невестка одна скучает.
— Вот и хорошо, что я по ночам работаю, — говорил отец, помаргивая, садился за стол и смотрел на брата.
За несколько недель до экзаменов Колин опять начал писать по вечерам сочинения и решать примеры, и отец сидел за столом напротив, исправлял ошибки, а иногда, если уходил в ночную смену, оставлял листы на буфете и поправлял утром.
— Чему равна десятая часть трех десятых? — спрашивал он, когда Колин утром спускался в кухню. — Лишнего времени соображать у тебя не будет. Как пишется «гиппопотам»?
Накануне экзаменов ему и остальным ребятам, которые должны были их сдавать, выдали в школе новую ручку, новый карандаш и новую линейку, и они отнесли их домой. Колин лег спать пораньше, и мать зашла к нему в комнату и подоткнула одеяло, а отец заглянул к нему, собираясь на работу, и сказал:
— Думай о чем-нибудь приятном. Ну, о каникулах, что ли. И сразу заснешь. Лишний час сна до полуночи стоит четырех утром.
А когда отец вышел, пришел дед и сказал:
— Спишь, малый? Купи себе чего-нибудь, — и сунул ему в руку монету. Когда дверь закрылась, он зажег свет и увидел, что это полкроны.
Он никак не мог уснуть. Он слышал, как отец выкатил велосипед во двор и окликнул миссис Шоу, которая вышла взять угля. Потом, словно всего через несколько минут, он услышал, что дед ложится в постель, напевая, как он часто делал в последнее время, «Скала Веков, прими меня» — мало-помалу его голос перешел в неясное бормотание и оханье. Еще позже он услышал, как мать разгребает золу, задвигает засов черного хода, поднимается к себе в спальню, что-то говорит Стивену, которого на эту ночь она взяла к себе, и снова спускается, чтобы принести ему воды. Он не спал всю ночь — переводил пятые доли в десятые, а десятые доли фунта в шиллинги и пенсы, повторял про себя по буквам: «окружность», «кенгуру» — и все слова, которые отец заставил его выучить наизусть. Он все еще пытался перевести доли ярда в футы и дюймы, когда вдруг почувствовал, что мать трясет его за плечо. Она говорила:
— Пора вставать, Колин. Я сейчас согрею тебе воды умыться.
Когда он сошел вниз, его одежда висела на ручке кресла у огня — брюки выглажены, носки аккуратно заштопаны. На краю очага стояли начищенные ботинки. Мать поднялась пораньше, чтобы выгладить его рубашку, и она висела на плечиках перед очагом.
— Я почистила тебе ботинки, чтобы ты не запачкал рук ваксой, — сказала мать.
В раковине стоял тазик с горячей водой, и над ним поднимался пар.
Чуть позже вернулся с работы отец. Он вошел, катя перед собой велосипед. Плечи его пальто и кепка были мокрыми, за колесами велосипеда по полу протянулся темный след.
— Только сейчас начался, — сказал он. — Холодище такой, что вот-вот снег пойдет. — Он снял пальто, встряхнул его и добавил:
— А у тебя есть листок, чтобы положить в карман? Для черновика. — Он пошел к раковине, вымыл руки, потом вырвал листок из конторского блокнота и аккуратно сложил. — Его линейка и ручка тут? — спросил он у матери, взял их с полки, осмотрел перышко и сказал: — Хлипкое какое-то. Нажми разок, и сломается. У нас есть для него запасное, Элин?
— Им там все дадут, — сказала она. — Пусть себе спокойно собирается.
— Ну да, конечно, — сказал отец. Он стоял у стола, поглаживая ладонью спинку стула. Потом посмотрел на него, на мать и обвел кухню беспомощным взглядом.
— Помни, что я тебе говорил, — сказал он. — Сначала подумай, а уж потом пиши. Начеркаешь лишнего, и тебе снизят отметку.
В кухню вошел Стивен, отец подхватил его на руки и сказал:
— Ну вот. У нас что, еще один ученый в доме растет? — Стивен вырывался, тянулся к столу, где стояла его овсянка. — Если он будет решать примеры не хуже, чем ест кашу, все будет в порядке, — добавил отец. — Беспокоиться нам будет нечего.
Дед сошел вниз в пижаме и сказал:
— Где мой чай? Мне сегодня чаю никто не принес, Элин.
А когда мать ответила:
— У нас ведь сегодня есть дела поважнее, — он поглядел на стол и сказал:
— Овсянка! От нее мозги хорошо работают.
— Ты что же, не будешь ее есть, Колин? — спросила мать.
— Нет, — сказал он, — не хочется.
— Съешь чего-нибудь, — сказала мать. — На пустой желудок много не напишешь.
— Это у него нервы, — сказал отец. — У меня у самого такое чувство, когда я выхожу в ночную.
— Ну, пусть возьмет яблоко, — сказала мать. Она глядела на него и стискивала руки. — Как только кончится, он сразу захочет есть.
Он взял ручку, карандаш и линейку, сунул в один карман сложенный листок, а в другой положил яблоко, которое дала ему мать. Когда он надел свой черный габардиновый дождевик и кепку, мать сказала:
— Нет, не сюда. Сегодня тебе можно выйти через парадный ход.
Она пошла за своим пальто, говоря через плечо:
— Я тебя провожу до автобуса.
А он сказал:
— Нет, я лучше один.
— Ну, как хочешь, — сказала она.
Она открыла дверь, держа Стивена на руках, и сказала:
— Стив, а ты поцелуешь его на счастье?
Стивен замотал головой, брыкнул ее и отвернулся, а отец сказал:
— Ну, желаю удачи, малый. И помни, что я тебе говорил.
— Угу, — сказал Колин и потряс руку, которую ему протянул отец, смущенно, даже покраснев немного.
Было еще совсем темно. Моросил дождь. Дальше по улице миссис Блетчли и миссис Риген уже шли к автобусной остановке с Блетчли и Майклом Ригеном. Из их ранцев торчали оранжевые ручки и карандаши.
— Ты ничего не забыл? — спросила мать. — Деньги на обед?
— Нет, — сказал он, не глядя на нее.
— Не забывай про вчерашний день, — сказал дед. — Надо будет, и еще найдется.
Когда он обернулся на углу, мать стояла в дверях. Она помахала ему, и он помахал в ответ, а потом свернул за угол и быстро зашагал к остановке.
Там в полутьме стояли толпой ребята, их матери и двое-трое мужчин с лицами, еще измазанными угольной пылью. Повсюду виднелись оранжевые линейки, ручки и карандаши.
— А ластик у тебя есть? — спросил Блетчли.
— Нет, — сказал он.
— Без ластика нельзя. — Блетчли вынул из кармана резинку. — Этот вот для карандаша, а этот для чернил, — сказал он, показав сначала один конец, а потом второй. — А промокашка у тебя есть?
— Нет. — Он мотнул головой.
Блетчли открыл ранец и вынул сложенную пополам промокашку. У Ригена в ранце лежала такая же промокашка и такая же резинка. А кроме того, мешочек с конфетами, шоколадка, апельсин, яблоко и пузырек с чернилами.
— У тебя и чернил нету? — сказал Блетчли. — Ты же ничего написать не сумеешь!
Подъехал автобус, в мокром асфальте блеснуло отражение замаскированных фар. Первым влез Блетчли. Он поцеловал мать, и она стояла у двери, пока он поднимался по ступенькам. Их было двенадцать ребят, и, когда все сели, матери и двое-трое шахтеров встали у окон — женщины на цыпочках — и махали им. Впереди села учительница, и автобус тронулся.
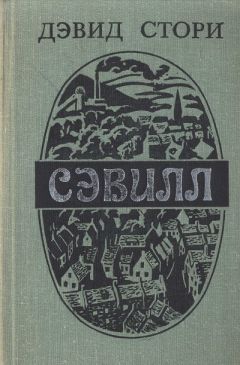

![Дэвид Стори - Сэвилл [отрывок]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
