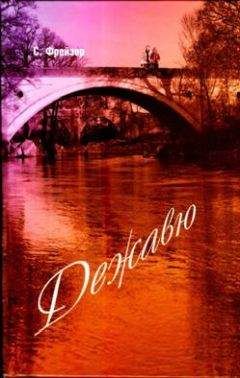Чарльз Фрейзер - Холодная гора
Перед ними раскинулось поле битвы, исчезающее в темноте у города и реки. Земля лежала мрачная, как ночной кошмар, и, казалось, ее намеренно заставили приобрести новую, ужасную форму: она вся была усеяна телами убитых и перепахана артиллерией. Ад земной — так ее можно было бы назвать. Чтобы отвлечься и не смотреть на поле, Инман взглянул на созвездие Ориона и произнес название той звезды, которую знал. Парень из Теннеси всмотрелся в звезду, указанную Инманом, и спросил:
— Откуда ты знаешь, что она называется Ригель?
— Я читал об этом в книге, — ответил Инман.
— Тогда это всего лишь название, которое мы ей дали, — сказал парень. — Это не Бог так ее назвал.
Инман подумал над этим с минуту и спросил:
— Как можно узнать, какое название дал ей Бог?
— Никак нельзя. Он держит это в тайне, — ответил парень. — Этого никогда не узнать. Это урок нам, который означает, что мы должны довольствоваться нашим незнанием. Вот то, что обычно происходит от знания, — сказал парень, мотнув головой в сторону истерзанной земли, по-видимому считая, что она не стоит даже того, чтобы махнуть рукой в ее сторону в знак отстранения от себя.
Тогда Инман подумал, что этот парень дурак, и остался при своем мнении — мы знаем то название главной звезды Ориона, которое сами дали ей, а Бог пусть держит Свое в тайне. Но сейчас он спрашивал себя: а может, тот парень все-таки имел какое-то представление о знании или по крайней мере о каких-то его проявлениях.
Инман и священник шли в молчании некоторое время, пока священник не спросил:
— Что ты собираешься со мной делать?
— Я думаю об этом, — ответил Инман. — Как ты попал в такую передрягу?
— Трудно сказать. Никто в городе даже не подозревает об этом. Она жила с бабушкой, такой старой и глухой, что нужно было кричать, чтобы она что-то поняла. Ей не так уж трудно было ускользнуть в полночь. Мы развлекались в стоге сена или на мшистом берегу ручья, пока первые птицы не начинали петь перед рассветом. Все лето мы встречались в лесу по ночам.
— Пробирались туда тайком, как пантеры крадутся в зарослях? Такую картину ты изображаешь?
— Ну да. Примерно.
— Как это началось?
— Как обычно все происходит. Взгляд, интонация, касание руки, когда она передавала жареного цыпленка во время пикника после воскресной службы.
— Уж очень быстро ты прошел расстояние между касанием руки и стогом сена, где спустил штаны.
— Да.
— А еще быстрее решил бросить ее в пропасть, словно сдохшую от холеры свинью.
— Что ж, да. Но все сложнее, чем ты думаешь. Во-первых, у меня ведь положение. Если бы все это обнаружилось, меня бы изгнали из округа. Наша церковь строга на этот счет. Наши прихожане не позволяют даже, чтобы у них в доме играли на скрипке. Поверь мне, я мучительно думал об этом по ночам.
— Это были дождливые ночи? Когда стога сена и мшистые берега были слишком мокрыми?
Священник не ответил.
— Можно было найти более простое решение, — сказал Инман.
— Я не смог.
— Жениться на ней, например.
— Снова говорю, все не так просто. Я уже обручен.
— Ах вот как.
— И теперь считаю, что быть священником — это не мое призвание.
— Да, — сказал Инман. — Я бы сказал, что ты совсем не годишься для этого дела.
Они прошли еще с милю, и перед ними на другом берегу реки, той самой, что текла по дну ущелья, открылось что-то вроде городка. Скопление деревянных строений. Дощатая, побеленная известью церковь. Пара лавок. Дома.
— Вот что, я считаю, мы должны сделать, — сказал Инман. — Положить ее обратно в постель, как будто этой ночи никогда не было. У тебя есть шейный платок?
— Да.
— Скомкай его, засунь себе в рот и ложись лицом в землю, — сказал Инман. Он размотал и снял проволоку с повода, в то время как священник делал то, что он ему велел. Инман обошел священника сзади, поставил колено ему на спину, обмотал проволоку вокруг его головы в шесть оборотов и затем скрутил концы.
— Если ты позовешь на помощь, — пояснил Инман, — сбегутся люди, и ты можешь оболгать меня. А у меня нет способа заставить их мне поверить.
Они вошли в городок. И сразу залаяли собаки. Но затем, узнав священника, уже знакомые с его ночными шатаниями, замолчали.
— Который дом? — спросил Инман. Священник показал вдоль дороги, затем повел через город и вывел с другой его стороны к маленькой рощице тополей. В конце ее среди деревьев стоял маленький дощатый домик — всего в одну комнату, — покрашенный в белый цвет. Священник посмотрел на него и кивнул. Проволока оттянула концы его рта, казалось, что он ухмыляется, и это выражение совсем не совпадало с настроением Инмана.
— Встань спиной к этому тополю, — приказал он священнику. Инман снял повод с лошади и привязал его за шею к дереву. Затем взял свободный конец повода, перекинул через плечо священника и связал кисти у него за спиной.
— Стой здесь тихо и останешься жив, — предупредил Инман.
Он снял девушку с лошади и подхватил ее, чтобы удобнее было нести, одной рукой обняв за талию, а другую просунув под мягкие бедра. Ее голова прислонилась к его плечу, и темные волосы, словно дыхание, касались его руки, пока он шел. Девушка тихонько застонала, как будто что-то увидела во сне. Она была беспомощная, беззащитная перед любой опасностью и охраняемая только доброй волей, такой редкой в этом шальном мире. «Все-таки я должен убить этого мерзавца», — подумал Инман.
Он понес ее к дому и положил у ступеньки крыльца на землю, поросшую пижмой. Затем взошел на крыльцо и заглянул через окно в темную комнату. Огонь чуть теплился в очаге, старуха спала на убогом ложе у огня. Она жила так долго, что стала почти прозрачной, кожа у нее была как пергамент, и если бы Инман поднял ее и посадил перед огнем, то мог бы сквозь нее читать газету. Рот у нее был открыт в храпе. В отблеске огня было видно, что у нее осталось всего две пары зубов: одна сверху, вторая снизу, как у зайца.
Инман толкнул дверь и обнаружил, что она не заперта. Он приоткрыл ее и просунул голову. Затем негромко произнес: «Эй». Старуха продолжала храпеть. Он дважды хлопнул в ладоши, но она не пошевелилась. Убедившись в безопасности, он решился войти. У очага стояла тарелка с половинкой круглого кукурузного хлеба и лежали два куска жареной свинины. Инман взял еду и положил в свой мешок для провизии. У задней стены, вдали от очага, стояла пустая кровать. Кровать девушки, заключил он. Он прошел к ней и откинул одеяло, затем вышел наружу и остановился, глядя на темноволосую девушку. Ее светлое платье было словно пятно света на темной земле.
Инман поднял ее, пронес внутрь и положил на кровать. Он снял с нее туфли и накрыл одеялом до подбородка. Затем, поразмыслив, снова откинул одеяло и перевернул ее на бок, так как ему вспомнился один парень из их полка, который пьяным лежал на спине и захлебнулся собственной рвотой; никто не заметил этого и не перевернул его. Так она проспит до утра, а утром проснется с головной болью, удивляясь, как это она оказалась в своей постели, хотя последнее, что ей помнилось, — как она развлекалась на сеновале со священником.
В этот момент поленья в очаге с треском упали, приняв более благоприятное для огня положение, и ярко вспыхнули. Девушка открыла глаза, подняла голову и в упор посмотрела на Инмана. Ее лицо было белым в свете огня, волосы растрепались. Казалось, она была перепугана до смерти, сбита с толку. Она открыла рот, как будто хотела крикнуть, но не произнесла ни звука. Инман склонился над ней, протянул руку, коснулся ее лба и пригладил вьющиеся у висков волосы.
— Как тебя зовут? — спросил он.
— Лаура, — ответила девушка.
— Послушай, Лаура, — сказал он. — Этот священник не имеет права говорить от имени Господа. Не тот он человек. Засни снова, и, когда проснешься утром, я буду просто сном. Забудь его. Он не принесет тебе добра. Знай это.
Он коснулся ее век кончиками пальцев; он видел, так делали люди, закрывая глаза мертвецам, чтобы оградить их от плохих видений. Она притихла под его рукой и снова заснула.
Инман оставил ее и вернулся туда, где стоял привязанный к дереву священник. В этот момент ему в голову пришла мысль, что неплохо бы вытащить нож и прикончить его, но вместо этого Инман порылся в мешке и достал оттуда перо, чернила и бумагу. Он нашел место, где лунный свет падал между ветвей деревьев. В его голубом луче он кратко описал всю историю, с небольшим предисловием и без всяких прикрас, только подчеркнув в одном из абзацев, что то, что он узнал, почти побудило его к тому, чтобы убить этого человека. Закончив, он насадил лист бумаги на ветку тополя на таком расстоянии, чтобы священник не смог до него дотянуться.
Тот наблюдал за ним и, когда понял намерения Инмана, заволновался и начал метаться, насколько позволяли ему путы на шее. Он ударил в сторону Инмана ногой, как только догадался, что им было написано. Он мычал и визжал сквозь шейный платок, забитый в его рот.