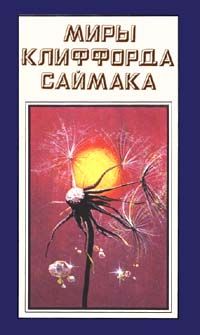Юрий Буйда - Вор, шпион и убийца
Если это и было фрондой, то — самой невинной. В конце концов, самыми антисоветскими писателями, по моему глубокому убеждению, были вовсе не Солженицын или Шаламов, а Шекспир и Достоевский.
Когда на семинаре, посвященном «Путешествию из Петербурга в Москву», я сказал, что Радищев никакой не революционер, даже не бунтарь, а охранитель, призывавший власти к реформам, чтобы избежать народного недовольства и бунта, преподавательница вывела меня из аудитории и шепотом попросила «больше никогда такого не говорить». Я был удивлен: мне казалось, что я истолковал книгу Радищева единственно возможным образом. Друзья хвалили меня за смелость, а мне, человеку, вообще говоря, самовлюбленному и жадному до похвал, было не по себе: все это отдавало каким-то непроходимым провинциализмом, пошлым и тоскливым.
Некоторые студенты гордились тем, что за ними «топает КГБ», хотя все их вольнодумство исчерпывалось мечтами о выгодной женитьбе на дочке начальника милиции Центрального района Калининграда и стихами без рифмы. Ну еще они мечтали за стаканом вина о тех временах, когда народ понесет с базара не Маркова и Ленина, а Кафку с Солженицыным, и об аспирантуре, хотя их, ценителей Пастернака — Мандельштама — Цветаевой, мучила мысль о том, что в аспирантуре им придется заниматься Некрасовым, поскольку аспирантов набирал только профессор Гаркави, известный некрасовед. То и дело они принимались с азартом вычислять «стукачей» среди друзей. От этих разговоров попросту тошнило. Я чувствовал, что живу не своей, какой-то межеумочной жизнью, и эта жизнь между становилась все невыносимее.
Весной на третьем курсе мы в общежитии праздновали день рождения Коня и Свиньи: они родились в один день. Двухслишнимметровый Геша Конь, мастер спорта по волейболу, деревенский парень из Белоруссии, и полутораметровый Мишка Свинья, москвич в фирменных джинсах, куривший «Мальборо», были друзьями не разлей вода и ютились в одной комнате. Прокутив деньги, они жили посылками, которые присылала деревенская родня Коня. В посылках было сало, чеснок и лук. С утра до вечера в их комнате стоял смрад, а под ногами шуршала луковая шелуха. Если у них появлялись деньги, они первым делом устраивали постирушки. Брали в прокате стиральную машину и баян, устанавливали машину в общей кухне, набивали доверху рубашками, брюками, простынями, бельем и запускали. Конь садился на табуретку у окна и начинал под баян орать белорусские народные и партизанские песни, пока вода из дрянной стиральной машины, хлеставшая на пол, не доходила до его лодыжек. Развешивать белье и убирать воду Коню помогала Цыца — при маленьком росте и вопиющей худобе у нее были огромные груди. Когда они занимались любовью, Цыца орала на все общежитие и каждый час, завернувшись в простыню, выбегала в коридор, чтоб отдышаться и покурить. А потом возвращалась к Коню — «доорать свое».
Двойной день рождения отмечали с размахом, было много гостей, много кориандровой водки и всяких дешевых закусок вроде шпротного паштета, который мы называли «рвотным». Мой однокурсник Сакс импровизировал на своем серебряном саксофоне, и все млели от Сачмо. Сакс был бисексуалом. Как-то он рассказал мне о своем первом гомосексуальном опыте: «А после этого он дал мне тридцать рублей. Тридцатник, старик!» После занятий, однако, у университета его ждали сногсшибательные молодые женщины, одетые так, как не одевалась даже наша Оленька Овчинникова, отец которой был начальником гарнизонного военторга. Вечерами Сакс играл в ресторанах и в деньгах никогда не нуждался.
А дружок Сакса — Гонька, крупный парень с волнистыми волосами до плеч, в тот вечер рвал гитарные струны, колотил по деке и вопил своим божественным голосом: «Boy! You gonna carry that weight! Carry that weight!», и ему аплодировали прохожие с тротуара.
Геша Конь вскоре ушел из университета и устроился в милицию. Через три месяца его наградили медалью: он в одиночку обезвредил опасного преступника. Цыца — она стала учительницей немецкого в школе рабочей молодежи — родила ему троих детей. Свинья вернулся в Москву, к родителям. Сакс впутался в какую-то темную историю с наркотиками, но избежал тюрьмы. Он по-прежнему играл в ресторанах и пользовался большой популярностью. Гонька стал солистом ансамбля песни и пляски Балтийского флота, и когда он выходил на авансцену, раскидывал руки и запевал своим божественным голосом: «Прощайте, скалистые горы», суровые адмиралы в зале смахивали слезы с ресниц. Вольнодумцы — кто женился на дочке начальника милиции Центрального района, кто устроился в комсомольскую газету, кто в горком и обком комсомола, кто в аспирантуру, где приходилось заниматься ненавистным Некрасовым, а один из них — советскую власть он называл «режимом», хотя тогда так было принято называть только правительство Пиночета — после университета и вовсе пошел служить в КГБ. Стихи писать они все перестали. Общежитие, где мы праздновали тот день рождения, вскоре превратили в один из учебных корпусов университета.
На праздновании двойного дня рождения я чем-то отравился и попал в инфекционную больницу. Через два дня гомерический понос прекратился, но выпускать меня не стали: инкубационный период — двадцать один день. Друзья принесли мне сигарет и учебники, чтобы я мог подготовиться к летней сессии.
Накатила Пасха, в воскресенье к моим соседям по палате приехали друзья, подруги и жены, которые привезли много вкусной еды и выпивки. Мужчины, питавшиеся паровыми котлетами без соли, набросились на копченую рыбу. За стол позвали медсестер, и вскоре все были пьяны. Самая молодая из медсестер — ей было девятнадцать, и она уже дважды лечилась в психушке от алкоголизма — устроила стриптиз в смотровом кабинете, куда выстроилась очередь: эту Юлю трахали по очереди человек пятнадцать-двадцать. А потом она кое-как выбралась во двор, закурила, упала лицом на скамейку, залилась кровью и потеряла сознание. В полуразрушенном здании, стоявшем на огороженной территории больницы, тоже кого-то трахали: видны были женские задницы, голые ноги, нижнее белье. Мужчины в больничных пижамах бегали через дырку в заборе в соседний магазин за добавкой, пытались передать вино несчастным, которые томились в забранных стальной сеткой боксах с табличками «Чума», «Холера». В туалет было невозможно зайти: огромный бак для мочи был перевернут, номерные горшки с дерьмом валялись где попало.
Я боялся копченой рыбы и вина, а потому читал учебник на своей койке, только изредка выходил на лестницу покурить. При мысли о том, что вскоре я вернусь в общежитие, в университет, займусь тем, что мне было неинтересно, не нужно, меня аж мутило.
А весь этот разгул… особенно сильного впечатления на меня он не произвел: в родном городке навидался всякого…
Утром я сказал врачу, который пришел меня осматривать:
— Я здоров. Понимаю: у вас правила, инструкции, но — выпустите меня отсюда. — Набрал воздуха и договорил: — Иначе я напишу жалобу вашему начальству и расскажу, что здесь происходило вчера.
Врач посмотрел на меня печально — и выписал.
В тот же день я отнес в деканат заявление с просьбой об отчислении, забрал из общежития Джоконду, висевшую над моей солдатской койкой, и уехал домой.
Через несколько дней я стал корреспондентом районной газеты «Знамя Ильича».
Глава 6. Malʼaria
Первое, что выяснилось, когда я пришел в районную газету: я не умею писать.
Проходя практику в этой же газете, я был предоставлен себе, а потому больше месяца с энтузиазмом занимался сбором сведений о семье одного юнца, которого должны были посадить за убийство: встречался с его дружками, родными, соседями, однокашниками, учителями, а потом сочинил текст на тридцать машинописных страниц в духе тогдашней «Литературной газеты». Тогда официально считалось, что преступность у нас не растет, потому что в социализме нет почвы для нее, но всю вину возлагать на преступника тоже было нельзя, потому что человек — продукт общества, в котором нет почвы для преступности. Кое-как справившись с финалом (виновата среда, как говаривали в XIX веке, но и сам — сам тоже хорош), я отдал свой опус машинистке. Макарычу, главному редактору, очерк мой понравился, но печатать его он не стал: слишком велик объем, «это не для нас, а для какой-нибудь центральной газеты», да и не до того было — в районе разворачивалась уборка урожая.
Теперь же я был не вольным стрелком, а штатным сотрудником. Меня послали в автоколонну — написать зарисовку о хорошем водителе, который был выдвинут кандидатом в депутаты районного совета. Я отправился в автоколонну, встретился с этим парнем и растерялся. Я не знал, о чем его спрашивать и как его работу связать с предстоящим депутатством. Вернувшись в редакцию, я долго мучился, пока не родил текст строк на сто, из которых Верочка, ответственный секретарь, милосердно оставила двадцать пять.