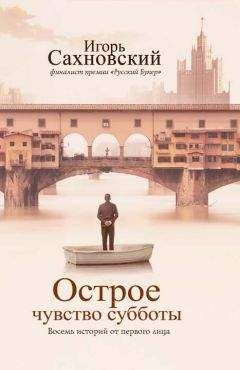Игорь Сахновский - Заговор ангелов
Кому-то понадобилось подсластить несчастливый строгий сюжет прекраснодушной романтикой: якобы, сойдя в преисподнюю, певец сумел растрогать хозяев мертвецкого царства своим дивным искусством. Между тем достаточно вслушаться в аргументы, которые, согласно Овидию, этот неженка «молвил»,[32] захлёбываясь горем, но всё же адресуясь как равный к самым жестоким богам. Его отчаянно простые доводы меньше всего нуждались в музыкальном усилении; а задевал он пальцами струны, когда просил за Эвридику, или не задевал – дело десятое.
Отдайте её, говорил он, отпустите.
Я ведь прошу не навсегда, только на время. Только на время!
Она всё равно вернётся сюда, как и я. Любой смертный – ваш должник. Любой человеческий путь закончится здесь. Но дайте ей немного ещё пожить. Сжальтесь над ней, верните мою милую!
Если же вам и слова незнакомы другие, кроме отказа, то я остаюсь – рядом с ней, в этой яме. Порадуйтесь смерти обоих.
Говоря так, он чувствовал обжигающее присутствие той, за кем пришёл: она была возле, где-то в толще темноты, словно лежала в глухой каменной постели, не только не слыша, но и вряд ли прислушиваясь. Она уже не была его милой, просто потому что стала ничьей. «Был пол её закрыт, как закрываются цветы под вечер».[33] Это не означало пустоты, но означало страшную переполненность чем-то другим: «как плод созревший – сладостью и мраком, она была полна своею смертью».[34]
И когда просителю вдруг ответили: «Да», отяготив согласие странным и жёстким условием не оглядываться на неё, не оглядываться ни под каким предлогом до перехода земной границы, он даже не посмел взглянуть, как она вышла, припадая на раненую ногу, в тесных своих погребальных пеленах, чтобы вслед за мужем отправиться назад.
Он второй раз пересёк лежащую на боку снулую реку, нашарил нетерпеливым шагом смутно белеющую тропу и стал взбираться по склону котловины. Было так тихо, что налетал страх: а идёт ли она за ним? А если отстала? Нетерпение сгущалось, накатывало, как рвота, и мешало дышать.
И вот тут настаёт черёд едва ли не самого потрясающего эпизода во всей человеческой истории, если иметь в виду не хронику побоищ и падения тронов, а историю отношений человека с человеком.
Эту горестную загадочную сцену будут сотни раз описывать и рисовать люди, разделённые десятками веков, каждый раз заново пытаясь понять, что же там всё-таки произошло, а фактически выясняя решающие подробности о самих себе. Проступок Орфея смертелен и неподсуден, притом что не имеет срока давности.
Ограничусь одним ошеломительным стихотворным свидетельством об окончательном прощании с Эвридикой, от которого мороз бежит по коже до сих пор:
…Когда внезапно бог
Остановил её движеньем резким
И горько произнёс: «Он обернулся»,
– Она спросила удивлённо: «Кто?»[35]
Это уж точно конец, условие нарушено. Теперь пусть нарушитель убирается восвояси. Вместо этого он идёт обратно – снова просить! На второй попытке его даже не удостоили переговоров. Общеизвестная версия: лодочник не пустил.
Шесть дней он сидит на берегу, измученный и грязный, всё ещё чего-то ждёт. На седьмой наконец уходит.
Остальная жизнь была скорее похожа на дожитие, избывание лишних лет. Тем немногим, кому он поведал о своём хождении в Аид, досталось таинственное признание: к своей любимой жене он прикасался как-то не так, и в этом исходная причина случившейся беды. Где-то мы уже слышали подобную фразу.
В конце концов, я замечаю, что два инфантильных вопроса, над которыми я ломал голову, будучи мальчиком, мерцают перед глазами всё той же нетронутостью и недоступностью, как серебряная фольга, закопанная под бутылочным осколком в детсадовском секретике, или пристальное созвездие в южном небе. Почему он оглянулся? И почему бог смерти поставил именно такое условие?
Но сейчас для меня, по крайней мере, самоочевидно, что не оглянуться он не мог. Не обернись к Эвридике – он бы Орфеем не был. Тот, кто придумал запретное условие, лучше всех знал природу человеческой страсти.
Что же касается божьих умыслов, то нам, видимо, пора договориться. С некоторых смутных времён боги отвечают только за чудо, больше ни за что. Вывести из себя, заставить их вмешаться могут разве что людские посягательства на сверхчеловеческую роль. Этого они уж точно не простят.
Глава двенадцатая ГЛАВНЫЙ ЗАЛ
Дороти заходит в магазин одежды, а я остаюсь на улице покурить. Для меня улица в любом случае предпочтительнее магазина, особенно если это улица города Винчестера.
Мы уже налюбовались местным кафедральным собором, заложенным в одиннадцатом веке и дотерпевшим до нашего приезда в завидной целости, почтительно потоптались у могилы Джейн Остин, а потом в Дороти проснулся покупательский инстинкт. Она предложила сдвинуться в магазинную сторону, но чуть погодя обязательно вернуться в какой-то легендарный зал, который она называла то Большим, то Главным.
На другой стороне улицы музыкант в клетчатом шарфе оглядывал свой саксофон так, будто готовился к первому поцелую. Он не подносил мундштук ко рту, а склонялся к инструменту, осторожно вытягивая губы в трубочку. Наконец он отважился исполнить первую фразу, которая звучала примерно так: «Неужели всё это возможно, неужели возмо-жно-о??..» И замолчал. Вероятно, ему надо было обдумать ответ. Проходящий мимо ирландский сеттер с податливой хозяйкой на поводке остановился послушать. Саксофонист не нашёл ответа и продолжил вопрошать: «А если это был не я? А-а?..» За точный пересказ мелодии не ручаюсь, но по смыслу очень близко. Сеттер задумался тоже.
Тут я не сдержался и вынул из наплечной сумки видеокамеру: довольно бесстыдный туристский жест, но я хотел помешать этой сцене закончиться и навсегда растаять в уличном тумане. Если уж начистоту, я не только фиксировал эту сияющую реальность, но и по возможности слегка отгораживался от неё, чтобы не обжечь глаза или не раствориться до конца.
При виде камеры саксофонист умолк и отвернулся, уводя в сторону свой поцелуйный инструмент. На его месте я, наверно, поступил бы так же.
Дороти вышла из магазина и сказала:
– Я купила тебе галстук.
– Спасибо. Но я не ношу галстуки, почти никогда.
– Да, я знаю, поэтому и купила. Ещё я тебе купила рубашку. Ив Сен-Лоран.
– А это в честь чего?
– У тебя же недавно был день рожденья. Зайдём в паб?
В пабе Дороти развернула галстук, чтобы я оценил его красоту. Галстук был широкий, с ладонь, и ярко-бирюзовый. По шёлковой морской глади взадвперёд ходили гондолы.
– Ну как?
– Чудесно. Это будет главная вещь в моём гардеробе.
– Что-то я хотела тебе очень важное сказать…
Принесли два холодных бокала – Дороти пиво, мне лагер.
– Мы ещё сегодня должны успеть в Большой зал, помнишь?
– Ты это хотела сказать?
– Нет. Честно говоря, не это.
Лицо у Дороти стало таким серьёзным, что я немедленно вспомнил об исключительной значимости системы образования.
Она помолчала. Можно было не сомневаться, что сейчас для затравки прозвучит какой-нибудь ультраправильный тезис.
– Я считаю, в отношениях двух людей самое важное – это доверие. Ты не будешь с этим спорить?
– Не буду.
– Вот смотри. Мой дом стоит примерно триста тысяч фунтов. Сейчас, может быть, уже триста двадцать.
– Так.
– На банковском счёте лежит столько же. Чуть больше трёхсот.
– Дороти, зачем ты мне это говоришь?
– Ну, чтобы ты знал.
– Для чего мне это знать?
– Если ты, допустим, переезжаешь в Англию, ты должен быть уверен в завтрашнем дне. Правильно? И если вдруг со мной случается что-нибудь ужасное, других наследников, кроме тебя, не будет. Наследником станет муж. А если, например…
– Подожди. Прости меня за тупость. Ты предлагаешь, чтобы мы с тобой по-настоящему поженились?
Вот тут она смутилась. Смутилась так, что все веснушки на лице смешались в один невыносимо румяный налив.
– Мы можем заранее договориться – по-настоящему или только официально, для проформы. Как захотим.
Я готов был убить себя за этот вопрос, но всё-таки я его задал:
– Дороти, зачем тебе это нужно?
– Допустим, я хочу, чтобы ты мог уехать из вашей гиблой страны.
– Сама ты гиблая.
– Извини. Есть и другие причины.
– Какие другие?
– Это гораздо труднее сказать, совсем личное.
– Совсем плохое? Тогда говори, чего уж там.
– Тогда скажу. Я по твоей вине первый раз в жизни кончила, причём дважды. В общем, обнаружила, что я женщина.
Даже не знаю, кому в такой ситуации проще: человеку с веснушками или без них.
– Ты уже допил? Пойдём в Главный зал.
На улице меня поразило, насколько свободно и охотно городок отворяется навстречу, соглашается стать моим; эту же изумительную приветливость, готовность впустить я ощущал едва ли не в каждом закоулке южноанглийской провинции. Кажется, первый раз я позволил себе плыть по течению: река сама знает, куда несёт. Но где-то чуть ниже диафрагмы, под ложечкой, у меня бултыхался корявый булыжник с неровными острыми краями, сгусток печали и страха, как будто мне предстояла операция по удалению жизненно важных органов, после которой, если выживу, я точно стану кем-то другим.