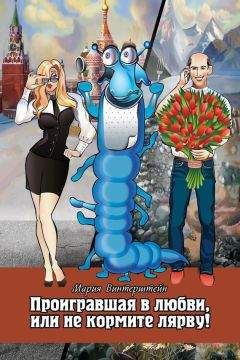Уильям Стайрон - Уйди во тьму
— Все в порядке, — спокойно произнесла она. — Не так уж и напугал…
— Так что же случилось, душечка? Скажи мальчику Чолли. Что там произошло?
— Ничего.
Она растянулась на траве. Он лег рядом, немного дрожа, и обнял ее, как делал всегда.
— Хорошая была вечеринка, душечка, — сказал он.
Она с минуту молчала.
— Нет, — сказала она, — нет, вечеринка была вовсе не хорошая. Совсем не хорошая.
— Да что ты, крошка. Ты нагоняешь тоску. Сбрось с себя этот мрак, слышишь? — Больше всего он думал о том, чтобы поцеловать ее, но, лежа с ней рядом, чувствуя, как ее волосы щекочут подбородок, понимал, что его голова находится слишком высоко, слишком далеко. Он съехал вниз.
Она лежала тихо.
— Душенька… — начал было он.
— Не надо, — сказала она. — Пожалуйста, не говори ничего. Только обними меня.
По его телу снова прошла дрожь.
— О’кей, душенька, — сказал он, — я всегда готов оказать услугу.
— Обними меня, — сказала она.
«Вот оно», — подумал он. Истерзанный желанием, он не задумываясь приблизил лицо к ее лицу и попытался — после годичного воздержания — увенчать себя первым поцелуем.
Она отвернула голову.
— Нет, — прошептала она, снова повернувшись к нему.
Он вдруг понял, что она плачет. Он крепче прижал ее к себе.
— Не плачь, — сказал он, — я люблю тебя, Пейтон.
— Держи меня крепче.
Больше ничего не произошло. Она тоже обняла его, и они долго пролежали молча в летней ночи возле покинутого всеми увеселительного места.
Кучи мусора и отбросов исчезли; ручей, вдоль которого по параллельным дорогам ехали катафалк и лимузин, протекал по прелестному лугу. Мирный пейзаж портили лишь бензобаки, торчавшие на ближнем болоте, да остатки брошенной пивоварни. Отсюда, на сколько хватал глаз, видны просторы залива, река и далекое море, затянутое дымовой завесой. В жаркий день ребята отправляются на окрестные проливчики и мелководье ловить креветок; болотная трава и тимофеевка не шевелятся; брошенная лодка с побелевшими шпангоутами лежит, полузасыпанная песком, среди прибитых к берегу плавников, ракушек, морских водорослей, похожих на смятые зеленые хоругви. Здесь стоит запах смолы, сильно пахнет морем, а наверху, хлопая крыльями, реют чайки, ныряют и снова взмывают над проходящими судами, слышен колокольный звон буев и шум моря, которое омывает потонувших людей, и они переворачиваются и дрожат, и отдают глубинам — возможно, вот в такой летний полдень — на постоянное проживание свои кости. На лугу тихо, нет ветра; насекомые прерывисто, усыпляюще звенят; в августе тут собираются все негры с Папашей Фейзом, который раз в год приезжает сюда из Балтимора, неся мир, искупление, очищение моря.
Долли смотрела, как по мере продвижения лимузина по лугу приближаются бензобаки, — они пугали ее, и ее снова пронзила страшная мысль. «Он меня больше не любит». Она чувствовала, что Лофтис приехал сегодня утром за ней лишь от отчаяния, возможно, исключительно по привычке или только потому, что Элен не поехала. Жуткий страх обуял ее; машина нырнула в яму на дороге, и Долли инстинктивно потянулась к его руке, ища поддержки, но рука ее замерла в воздухе, и она опустила ее на сиденье. Она прикрыла глаза: «О Господи, будь милостив».
Большинство людей, когда случается беда, лелеют по крайней мере одну надежду, маячащую на туманном горизонте: возможность любви, получение денег, уверенность, что время все лечит, даже самое мучительное. Но у Лофтиса, смотревшего на луг, не было такой уверенности: его вклад в счастье в жизни, казалось, был полностью исчерпан, и сердце съежилось в груди, точно проткнутый воздушный шар. Он не философствовал — он не был в этом натренирован, да и не желал этого. Чрезвычайные происшествия принадлежали к числу тех, от которых следует быстро отвлечься и постараться их забыть, и поскольку в прошлом у него всегда возникала необоснованная надежда, он никогда не обращался к Богу. Но надежда. Да, конечно. «Элен — она вернется ко мне». Ему казалось, что он видит неясный расплывчатый мираж — колонны пыли, приближающиеся к нему с дальнего края луга, — огромные, они отражали солнечный свет и тянулись ввысь, завихряясь; он видел водоросли, небо, какой-то призрак. «Я вылечу ее — она будет в порядке. Сегодня я скажу ей: наша любовь никогда не исчезала». Обливаясь потом, он сощурился — на губах его мелькнуло что-то вроде улыбки. «Моя любовь…» И бензобаки внезапно выросли из болота рядом с ними. В воздухе сильно пахло каменноугольным газом, рыбой. Катафалк замедлил ход, из капота вырвался дым. Затем катафалк остановился, и мистер Каспер, резко нажав на тормоз, застопорил следовавший за ним лимузин. Дорога была перекрыта — вдали какая-то неразбериха: музыка, пение, какое-то празднество. Толпа негров в тюрбанах и белых одеждах крутилась возле блестящего «кадиллака» со съемным верхом.
— Что это? — спросила Долли.
Элла Суон наклонилась вперед на своем сиденье.
— Это Папаша Фейз, — прошептала она.
Взгромоздившись на сиденье «кадиллака», Папаша Фейз раздавал благословения толпе. Он улыбался, его лицо, черное как ночь, блестело от пота. Он широко разводил руки — с полдюжины бриллиантовых колец сверкали при этом, а его блестящий складной цилиндр и бриллиантовая булавка в галстуке отбрасывали на толпу красивые вспышки. Толпа издала вздох, глубокий и уважительный — «а-а-а-а-ах», — и дождь бумажных и серебряных долларов, монет в десять и двадцать пять центов, посыпался на Папашу Фейза, на его машину и на землю. Заиграл оркестр — грохоча, ликуя, загудел большой барабан.
«Радуюсь я!» — пела толпа.
Бух.
«Мой Спаситель!»
«Радуюсь я!»
«Я радуюсь!»
Бух.
— Эти негры, — заметил мистер Каспер, — собрались на что-то вроде бдения или чего-то еще. Придется нам ехать в объезд по той дороге.
Катафалк и лимузин съехали в сторону болота, запрыгали по ухабистой гаревой дороге. Негры были теперь над ними — в своей экзальтации они не обращали на них внимания, их одежды развевались, черные руки вздымались к небу, и Элла, глядя на них, повернулась, подняла, чтобы помахать, руку и бесконечно мечтательно произнесла:
— Привет, Папаша!
Лимузин страшновато подпрыгивал.
— О Господи, — произнесла Долли, — куда же мы едем?
«В самом деле — куда? — подумал Лофтис. — Неужели она вечно должна задавать такие вопросы?»
Над ними высилась пивоварня, ее кирпичные остроконечные верхушки и зубчатые стены разваливались, крошились. Парапеты были обвиты ползучими растениями и виргинским плющом и жимолостью. Лофтис посмотрел вверх. Теперь в погожие субботние дни, когда влажно пахнет алтеем и одуванчиками, а солнце освещает рассыпающиеся кирпичи, маленькие мальчишки бросают камни, разбивая оставшиеся после стольких лет окна, и поднимают страшный крик в обезлюдевших залах, где гуляет эхо.
— Куда же мы едем?
«В самом деле — куда? Мы едем хоронить мою дочь, которую я так любил».
Бензобаки выросли до гигантских размеров, поющие негры исчезли за этим надменным, покрытым ржавчиной литьем. Негры снова появятся. Бензобаки были старые — одному Богу известно, до какой степени. Здесь росли ядовитые сорняки и бросовые цветы — белые, голубые и розовые; в образовавшихся в ржавчине трещинах и клубках старого железа вдруг появлялась ящерица и, пьяно щурясь, смотрела на жаркое солнце. Лофтис поглядел вверх. Бензобаки, привезенные с прекрасных виргинских берегов, стояли здесь, на болоте среди травы, старые, как время, глядя на море.
По машине пронесся соленый воздух; с пола поднялась тысяча пылинок. Бензобаки пролетели мимо. Снова появились поющие негры.
Радуюсь я
Моему Спасителю!
«Ох, Элен, вернись ко мне».
4
Всю дорогу, пока его преподобие Кэри Карр ехал к Элен — да, собственно, все утро, — он думал: «Бедная Элен, бедная Элен». Только это и ничего больше — при таком огромном и безнадежном несчастье ни набожность, ни молитвы не помогут; он должен врачевать лишь состояние человека, притом с помощью скромных человеческих возможностей, так что он снова думал лишь: «Бедная Элен, бедная Элен». Он остановился возле обочины, у светофора. Шоссе спускалось вниз, отражая солнечный свет, волны жары, и его машина «шевроле»-купе стала съезжать на пешеходный переход. Поглядев вокруг, Карр нажал на аварийный тормоз. Над стоявшим на углу киоском, торгующим шашлыками под полуденным солнцем, висели неоново-голубые часы. Было половина двенадцатого — он опаздывает.
Кэри Карр носил очки, и у него был подбородок с ямочкой. В сорок два года он все еще очень молодо выглядел — у него пухлые щеки и жеманный рот, однако для тех, кто знал его, это херувимски безучастное и бескровное лицо быстро менялось: все знали, что на этом лице может появиться решимость и бездонная страсть. Совсем молодым человеком он пытался вобрать в себя всю красоту мира, и не сумел. В шестнадцать лет он был поэтом, убежденным, что отсутствие мужественности — это нечто трагичное, даже благородное и порожденное роковой потребностью. Он был единственным ребенком. У его матери, вдовы, были красивые влажные глаза, прелестная кожа, обтягивавшая хрупкие дуги скул, и губы с опущенными уголками, так что всегда казалось, будто она немного скорбит о чем-то. Но она вовсе ни о чем не скорбела. Она была милой, заботливой женщиной с несколько старомодной веселостью, и она любила Кэри больше всего на свете. Она развивала его чувствительную натуру. Когда ему исполнилось семнадцать, она отправила его в Вашингтон и в Ли, где проживал в то время один старый и знаменитый поэт. Но это была ошибка. Уверенный в своей гениальности, Кэри целый год писал по сонету вдень, и наконец, исполненный надежд и окончательно выдохшийся, понес поэту триста сонетов в фиолетовой обложке — не столько для одобрения, сколько для восхищения. Какая это была ошибка! Поэт был вздорный громадный мужчина и решал большинство своих проблем за едой, злобствуя и без конца болтая об учениках, которых он подозревал в извращениях. Он больше не писал стихов, да и вообще стал презирать поэзию, кроме своей собственной, — свои стихи он читал субботними вечерами полдюжине юношей, апатично сидевших вокруг него на полу и попивавших херес. Он попытался проявить мягкость к Кэри, но сумел лишь сказать ему горькую правду: сонеты, как наконец узнал юноша, были отчаянно плохи. Он слишком многого ждал от них, и провал пошатнул его здоровье и разум. С ним произошло то, что называли тогда «нервным срывом», и его мать, жившая в Ричмонде, поспешила отправить сына в горы Блю-Ридж, в санаторий.