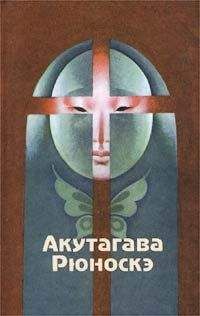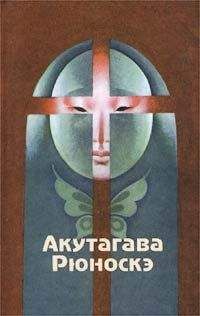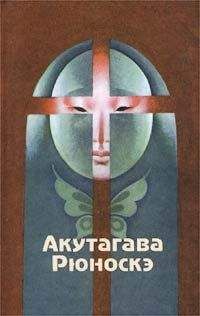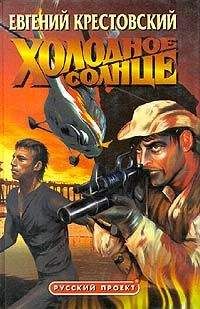Анатолий Кузнецов - Огонь
Чем ближе они подходили, тем выше и величественнее становилась стена пара, и вот стал слышен мощный «шум многих вод», как выражался Иезекииль.
Они нырнули в прозрачную пелену пара — и открылся необъятный квадратный бассейн, озеро с прямолинейными бетонными берегами. Выстроясь ровными рядами от берега к берегу, производя шум водопада, били фонтаны, великое множество фонтанов, каждый порождая клубы пара, словно дымя. Противоположный берег терялся в белой мгле, зрелище было фантастическое. Но земную реальность ему придавали торчавшие по берегу прозаические ржавые трубы с приваренными железными табличками, на которых белилами было коряво выведено «Купаться строго воспрещается!».
Тропка кончилась у утонувшей в снегу дырявой железной бочки, и снег был дальше девственно нетронутый, в застывших завитках после метели, нависший над тёмной водой ослепительно белыми языками.
— Купаться нельзя, потому что в воде яд, — сказала Женя.
— Яд? -
— Да. Цианистый калий. Из доменных газов, так мне объяснили.
— А ты что, пробовала? -
— Нет.
— Наверно, летом тут стоит сильная радуга? -
— Да. Над каждой брызгалкой. Если написать рассказ, то примерно такими словами: из доменных холодильных устройств вода поступала по подземной трассе в продольные трубопроводы, расходясь в поперечные отводы, кончавшиеся соплами.
— Название можно дать: «Сцена у фонтанов с цианистым калием».
Женя села на бочку, съежившись, подперев подбородок кулаком, глядя на фонтаны загипнотизированно, отрешённо.
— А холодно тебе живётся, — сказал он. — До меня дошло.
— В мире нет ласки, — сказала она. — В мире исчезает ласка, исчезает жалость, исчезает сочувствие. Трубопроводы растут.
— Нужно ли противопоставление… То само по себе…
— Одно дело — сцены просто у фонтанов, под берёзами и под луной, и совсем другое дело — у охлаждающих систем с соплами. Техника, правда, переворачивает мир и человека, но куда? -… Наверно, я слабачка, тургеневская барышня, анахронизм.
— Нет, не так.
— Как же не так, если уже стиль целого века. Мы строим, мы созидаем, а потому какие-такие ещё сантименты? — Оптимизм, бодрость, увлечённость делом, ну, в крайнем разе умный, иронический скепсис. А ласка — это что-то слюнявое, жалость предосудительна вообще. «Сочувствие» — слово, которое скоро станет непонятным детям. Они будут лазить в словари, чтобы узнать, что это значит…
— Ты преувеличиваешь.
— Да не очень, — возразила она. — Знаешь, что мне кажется самым страшным в сегодняшнем мире? — Равнодушие.
— Объясни.
— Равнодушие — такая самоуверенная деловитая невнимательность ко всем и всему, исполняющая, впрочем, все внешние формы внимательности… Так что если её обвинить в невнимательности, она даже обидится: как? — Я вчера проявила шесть признаков внимательности, сегодня шесть! Написано, что самое сильное одиночество человека — на шумной улице города.
— В Нью-Йорке. Я даже испытывал это сам. Начинаешь задыхаться: когда же наконец домой? — Потому что по сравнению с ними у нас самые внимательные, самые добрые люди, это и иностранцы говорят.
— Мы заражаемся.
— Возможно.
— Вот был мой муж. Блестящий инженер, современный человек, горизонты, сверхпрочные сплавы — металлургия космического века. Обожествление науки и только науки. Мы познакомились студентами. Он — в политехническом, я — в педагогическом. У них там, в политехническом, были такие, что прямо говорили: «Мы всяких педиков-филологов за людей не принимаем».
— Ну, это глупость.
— Нет! Нет! Знала таких, серьёзно считали, что они соль, скелет и суть земли! Как же, ведь наука и техника, оказывается, — это самое, самое главное, ничего важнее нет; ведь смысл жизни, оказывается, о том, чтоб стрельнуть ракетой или там сконструировать искусственный мозг. Есть такие, что серьёзно в это верят.
— Глупость.
— Нет! Нет! Толстого и Достоевского они не читали, конечно, культурный «багаж» — записанные на магнитофоне песенки. Меня, «педика», они принимали всерьёз лишь как «кадр», а мне, дурочке, это казалось забавным и лестным и нравилась его нерассусоленная, без сентиментальных слов и «охов-ахов» под луной любовь. Потом он вырос.
— А ты поняла, что без «охов-ахов» жизнь теряет прелесть.
— Нет. Без внимательности. Не в словах дело, а с самой сути, душевной системе таких людей. Он вырос — очень положительный, деятельный, оптимистичный, способный. О нет, он был очень внимательный, такой предупредительный! Всегда открывал передо мной дверь, при выходе из автобуса подавал руку. Заботился, чтобы у меня было зимнее пальто и платья. А когда я забеременела, с каким вниманием он отнёсся к этому, отбросил на целый час свои космические сплавы, так проникновенно, логично, даже с сильной дозой печали рассматривал со мной вопрос со всех сторон: почему нам никак нельзя ещё заводить детей, это бы в самом разгаре подкосило и его движение (как раз испытания близятся к решающей фазе!), и моё движение (год или больше быть прикованной к люльке!), в общем, разрушится всё счастье. С какой заботой он сам провожал меня до 6ольницы, приходил с передачами в отведённые для посещения часы, заботливо забрал меня на такси, хотя в это время шло решающее обсуждение, на котором ему следовало быть. И так во всём. О, он был прекрасен, я преклонялась перед ним. Он даже — ты не поверишь! — он даже не изменял мне, как другие пошляки. По крайней мере я ничего не знаю, а ведь это главное, правда? -
— Нет.
— Но он так удивился! Он очень удивился… Ну, просто обалдел, когда я сказала, что больше жить с ним не хочу. Он ничего не понял. Он кричал, и перечислял, и подсчитывал, что он ради меня сделал и что он мне дал. Кричал: «Неужели мало? — Что тебе ещё надо? -» Я сказала: «Например, ласки…» Он возмущённо закричал: «Я тебя ласкал каждый вечер!» Мне показалось, что он чуть не добавил: «С десяти до одиннадцати». Бог ты мой!… Почему меня угораздило быть такой неправильной? — Все такие правильные, правильные, положительные, герои, а неправильные путаются у них под ногами, пищат и вносят сумятицу в жизнь. Логично мысля, нужно всех неправильных исправить, извлечь, чтоб были только одни правильные, похвальные люди. Возможно, скоро так и будет.
— Не будет. Не должно, во всяком случае.
— А что? — Сделать всех правильными. Наука всесильна. А чисто технические трудности — на то они и герои, такие, как мой муж, они всё победят!
— Нельзя смотреть так односторонне пессимистично. Односторонность — ошибка. Все многогранно — люди, события, прогресс…
— Попробовал бы ты объяснить это ему. Когда мозги начисто забиты «делом», а вся философия, вся мораль, этика сводятся к «установкам», голым до идиотизма. К математическим аксиомам, запоминать их так легко… Например, знаешь, какое изречение из Горького он часто употреблял? — Ещё со школы выучил, принял на вооружение: «Не жалеть человека — уважать его надо». Ведь правильные же слова? — Ведь так? -
— Конечно.
— Вот и ты говоришь: конечно. А знаешь, как он это понимал: не надо жалеть никогда, вообще, ни при каких условиях, вообще не жалеть, жалость оскорбительна! Нужно только уважение, уважение! Заставь дураков богу молиться… Человека надо уважать и жалеть, иногда просто примитивно, обыкновенно, по-доброму пожалеть, как мама жалеет ребёнка: упал, ушибся, мама пожалеет — пройдёт. Или и детей не надо жалеть — только уважать? -… Однажды он пришёл: провалились исследования, полетели год работы, надежды, мечты. Он был такой несчастный, такой горюющий мальчик… Я стала гладить его по голове: ничего, пройдёт, ты сделаешь ещё лучше, в общем, говорила ласковые слова… Он вскочил, оттолкнул меня, чуть не ударил: «Вон! Не нуждаюсь в жалости!…» Извини меня, я, кажется, порчу сцену у фонтанов.
— Поговорим ещё. Посиди.
— Нет, не могу. Сама себя взвинтила. Теперь ты дорогу знаешь, можешь пройти сюда сам, даже можешь сейчас остаться. Тут приходят мысли.
Она встала, пошла, проваливаясь, по тропинке, спешила. Павел двинулся за ней.
— Может, встретимся вечером сегодня? -
— Нет, сегодня у меня конференция, потом гора стирки.
— Отложи.
— У меня правило: что намечено, то делать.
Павел не стал настаивать. Шёл молча, чуть отстав, но у стены склада Женя предложила:
— Ты здесь остановись немного, я пойду одна. Не хочу, чтобы нас снова видели вместе.
— И ты боишься разговоров? -
— А что же, ты уедешь, а они будут тянуться хвостами много недель, мне их выслушивать…
— Тебя это волнует? — — с некоторой досадой спросил Павел.
— Да, — равнодушно сказала она.
И пошла, удаляясь, через балки, камни, угольные кучи, ковыляя на своих каблуках, какая-то вопиюще тоненькая, неприкаянная.
Сцена эта преследовала Павла, пока он блуждал по заводу и по цехам, что-то записывал, с кем-то говорил, но потом сами ноги его понесли к управлению, и он даже знал, чем оправдается: «Адский мороз, а у тебя тепло, как в тропиках». Он в самом деле промёрз до костей, и во рту появился какой-то болезненный привкус, как бывает при гриппе. Очень требовалось прогреться.