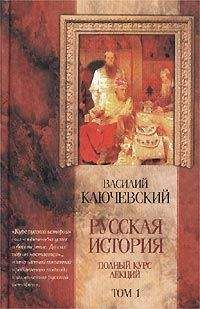Саша Соколов - Школа для дураков
И ты пошел за ней по длинному коридору, где висели лампочки без абажуров и пахло настоящей почтой: сургуч, клей, бумага, бечевка, чернила, стеарин, казеин, перезревшие груши, мед, сапоги со скрипом, крем-брюле, дешевый уют, вобла, побеги бамбука, крысиный помет, слезы старшего письмоводителя. В конце коридора была небольшая зала, она как бы венчала его: так реку венчает озеро, в которое она впадает. В зале на стеллажах лежали посылки и бандероли, адресованные туда и сюда, окно было зарешечено, а посреди комнаты на столе серебрился электрочайник с пестрым шнуром, который заканчивался вилкой. Женщина вставила вилку в розетку, села на стул, а ты сел на другой – и вы стали ждать, когда закипит. Я хорошо знаю тебя: по натуре своей ты порывист, тебе недостает усидчивости в школе и дома, ты пока слишком молод и оттого не приемлешь долгого молчания, затянувшихся пауз в разговоре, от них тебе делается неловко, не по себе, одним словом, ты не терпишь пассивности, бездействия, тишины. Сейчас, будь ты один в этой почтовой комнате, ты наполнил бы ее своим криком так же, как ты наполняешь на досуге пустые школьные аудитории, туалетные помещения, коридоры. Но ты не один здесь, и хотя тебя распирает вызревающий в глубинах твоего естества неописуемый вопль, и он готов вырваться наружу в любое мгновение, и тогда ты лопнешь и раскроешься подобно ранней апрельской почке и весь обратишься в свой собственный крик: я Нимфея Нимфея Нимфея ея-ея-ея я-я-я а-а-а-, – ты не можешь, ты не имеешь права пугать эту молодую душевную женщину. Ибо если ты закричишь, она прогонит тебя прочь и не поставит штемпель на Козодоя, ни в коем случае не кричи здесь, на почте, иначе у тебя не будет коллекции, о которой ты столь долго мечтал, коллекции, состоящей из одной погашенной марки. Или этикетки. Сдержи себя, отвлекись, подумай о чем-нибудь нездешнем, загадочном, или начни ни к чему не обязывающий разговор с женщиной, тем более, что, насколько я понимаю, она сразу понравилась тебе. Хорошо, но как же начать, какими словами, я вдруг забыл, как следует начинать разговоры, которые ни к чему не обязывают. Весьма просто, спроси ее, можешь ли ты задать ей один вопрос. Спасибо, спасибо, сейчас. Могу я задать вам один вопрос? Конечно, мальчик, конечно. Ну а теперь, что говорить дальше? Теперь спроси ее о почтовых голубях или о работе, узнай, как у нее вообще дела. Да, вот именно: я хотел узнать у вас, как идут дела у вас на почве, то есть нет, на почте, на почтамте почтимте почтите почуле почти что. Что-что, на почте? Хорошо, мальчик, хорошо, а почему это интересует тебя? Вы, верно, держите почтовых голубей, не так ли? Нет, а зачем? Но ведь почтовые голуби, где же им еще жить, если не у вас на почуле? Нет, мы не держим, у нас есть почтальоны. В таком случае вы знаете почтальона Михеева или Медведева, похож на Павлова и тоже катается на велосипеде, но не надейтесь увидеть его за окном, он катается не здесь, не в городе, он служит за городом, в дачном поселке, у него борода – так вы не представлены ему? Нет, мальчик. Жаль, а то мы с удовольствием побеседовали бы о нем и вам не было бы скучно со мной. А мне и не скучно, – отвечает женщина. Вот славно, значит и я немного понравился вам, у меня к вам дело, если не ошибаюсь: мне пришло в голову завязать с вами знакомство, и даже больше того, меня зовут так-то, а вас? Смешной какой, – говорит женщина, – вот смешной-то. Не смейтесь, я поведаю вам всю правду – как есть, видите ли, судьба моя решена: я женюсь, очень скоро, возможно через пару-тройку недель. Но женщина, которая должна стать моею женой – она чрезвычайно нравственна, вы понимаете, что я имею в виду? и она ни за что не согласится до свадьбы. А мне очень нужно, необходимо, в противном случае я изойду своим нечеловеческим криком, как кровью. Доктор Заузе называет такое состояние припадком на всенервной почве, поэтому я решился попросить вас помочь мне, оказать мне одну услугу, любезность, это было бы весьма любезно с вашей стороны, вы ведь – женщина, вам, я полагаю, тоже хочется кричать на вашей нервной почте, так отчего бы нам не утолить наши почули, неужели я ничуть не приглянулся вам, я же так старался понравиться! Вы не представляете, как я буду скучать без вас, когда мы отклеим этикетку и вы поставите штемпель и я уйду обратно, в дом отца моего: я не отыщу утешения ни в чем и нигде. А может, у вас уже есть некто, с кем вы утоляете почули? Боже мой, да какое тебе дело, – говорит женщина, – дерзкий, прямо ужас. В таком случае я готов немедленно доказать, что я лучше него во всех отношениях, впрочем, вы уже осознали это. Разве не ясно, что ум мой – сама гибкость и логика есть, разве не факт, что если существует на всем свете хоть один будущий инженерный гений – так это именно я. И это я, я расскажу вам немедленно какую-нибудь историю, да, что-нибудь такое, после чего вы не устоите. Вот. Давайте я расскажу своими словами сочинение, которое сдал нашей Водокачке на прошлой неделе. Я начну с самого начала. М о е у т р о. С о ч и н е н и е.
Дудочка маневрового паровоза «кукушка» поет на рассвете: пастушеский рожок, флейта, корнет-а-пистон, детский плач, дудели-дей. Я просыпаюсь, сажусь на кровати, рассматриваю свои голые ноги, а потом гляжу за окно. Я вижу мост, он совершенно пуст, он освещен зелеными ртутными фонарями, а у столбов – лебединые шеи. Я вижу только проезжую часть моста, но стоит выйти на балкон, и мне откроется весь мост целиком, вся его эстакада – спина испуганной кошки. Я живу вместе с мамой и папой, но иногда получается, что я живу один, а соседка моя – старая Трахтенберг, а скорее всего – Тинберген жила с нами на старой квартире, или будет жить на новой. Как называются остальные части моста – я не знаю. Под мостом – линия железной дороги, а лучше сказать – несколько линий, несколько путей сообщения, некоторое число одинаковых, одинаковой ширины путей. По утрам ведьма Тинберген пляшет – плясала, будет плясать – в прихожей, напевая песенку про Трифона Петровича, кота и экскаваторщика. Она пляшет на контейнерах красного дерева, на их верхних площадках, под потолком, а также возле. Я ни разу не видел, но я слышал. Под потолком. По ним – туда и сюда – ходит «кукушка», вся сотрясаясь на стрелках. Тра-та-та. Ритм она отбивает на марокассах. Она толкает и тащит коричневые товарные вагоны. Я ненавижу эту косматую старуху. Закутавшись в тряпье, отрастив крючковатые длинные когти, избороздив лицо свое мучительными морщинами столетий, клавдикантка, она пугает меня и мою терпеливую мать днем и в ночи. А на рассвете – начинает петь – и вот я просыпаюсь. Я люблю эту дудочку. Дудели-дей? – спрашивает она. И, подождав минуту, сама себе отвечает: да-да-да, дудели-дей. Это она отравила Якова, бедного человека, человека и аптекаря, человека и провизора, и это она служит у нас в школе заведующей учебной части, частью учебы. Таким образом, делая выводы о моем утре, можно сказать, что оно начинается криком кукушки, звуком железной дороги, кольцевой железной дороги. Если смотреть на карту нашего города, где обозначены и река, и улицы, и шоссе, представляется, будто кольцевая дорога сжимает город, как стальная петля, и если, испросив позволения констриктора, сесть на проходящий мимо нашего дома состав, то он, этот товарный поезд, сделает полный круг и через день возвратится в то же место, в то место, где ты оседлал его. Поезда, которые минуют наш дом, движутся по замкнутой, а следовательно – бесконечной кривой вокруг нашего города, вот почему из нашего города выехать почти невозможно. Всего на кольцевой дороге работает два поезда: один идет по часовой стрелке, другой – против. В связи с этим они как бы взаимоуничтожаются, а вместе – уничтожают движение и время. Так проходит мое утро. Тинберген постепенно перестает вытаптывать молодые бамбуковые рощи, и песня ее, цветущая, самодовольная и беспощадная как сама старость, затихает вдали, за коралловыми лагунами, и только бубны, тамбурины и барабаны мчащихся через мост авто нарушают – да и то изредка – тишину нашей квартиры. Пропадет – растает.
Прекрасно, прекрасно, прекрасное сочинение, – говорит Савл. Мы слышим его глухой, подернутый дымкой педагогический голос, голос ведущего географа района, голос дальновидного руководителя, поборника чистоты, правды и заполненных пространств, голос заступника всех униженных и окровленных. Мы по-прежнему здесь, в немытой мужской уборной, где нередко так холодно и одиноко, что из наших голубых ученических губ струится пар – признак дыхания, призрак жизни, добрый знак того, что мы еще существуем, или ушли в вечность, но, как и Савл, возвратимся, дабы совершить или завершить начатые на земле великие дела, а именно: получение всех и всяческих академических премий, аутодафе в масштабе всех специальных школ, приобретение подержанного автомобиля, женитьба на учителке Ветке, избиение всех идиотов мира древками сачков, улучшение избирательной памяти, разможжение черепов меловым старикам и старухам вроде Тинберген, отлов уникальных зимних бабочек, разрезание суровых ниток на всех заштопанных ртах, организация газет нового типа – газет, где не было бы написано ни единого слова, отмена укрепляющих кроссов, а также бесплатная раздача велосипедов и дач во всех пунктах от А до Я; кроме того – воскрешение из мертвых всех тех, чьими устами глаголила истина, в том числе п о л н о е воскрешение наставника Савла вплоть до восстановления его на работе по специальности. Прекрасное сочинение, – говорит он, сидящий на подоконнике, греющий ступни ног своих на радиаторе парового отопления, – как поздно мы узнаем учеников наших, как жаль, что раньше я не разглядел в вас литературный талант, я бы уговорил Перилло освободить вас от уроков словесности, и вы могли бы в образовавшийся досуг занять себя чем угодно, – вы поняли меня? – чем угодно. Так, вы могли бы без устали собирать марки с изображением Козодоя и других летающих птиц. Вы могли бы грести и плавать, бегать и прыгать, играть в ножички и разрывные цепи, закаляться как сталь, писать стихи, рисовать на асфальте, играть в фанты, проборматывая прелестное и ни с чем не сравнимое: черный с белым не берите, да и нет – не говорите, и тут же: вы приедете на бал? Или, сидя в лесу на поваленном бурей дереве, торопливо и вполголоса, не имея в виду никого и ничего, рассказывать самому себе неувядающие считалки: эники-беники ели вареники, или: вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Но прекраснее: жили-были три японца – Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрони, жили-были три японки – Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лимпомпони; все они переженились: Як на Цыпе, Як-Цидрак на Цыпе-Дрипе, Як-Цидрак-Цидрони на Цыпе-Дрипе-Лимпомпони. О, как много на земле дел, мой юный товарищ, дел, которыми можно бы занять себя вместо дурацкой-дурацкой писанины в часы нашей словесности! С сожалением о невозможном и утраченном. С грустью. С лицом человека, которого никогда не было, нет и не будет. Но, ученик такой-то, боюсь, вам не избежать этих уроков, и вам придется с мучительной болью заучивать наизусть отрывки и обрывки произведений, называемых у нас литературой. Вы с отвращением будете читать наших замызганных и лживых уродцев пера, и то и дело вам будет невмоготу, но зато, пройдя через горнило этого несчастья, вы возмужаете, вы взойдете над собственным пеплом, как Феникс-птица, вы поймете – вы все поймете. Но, дорогой учитель, – возражаем мы, – разве сочинение, пересказанное своими словами той женщине на почуле, не убедило вас, что мы и так давно поняли, и что нам вовсе не обязательно проходить какие бы то ни было литературные горнила? Безусловно, – отвечает наставник, – я осознал это с первых же фраз, вам действительно не нужно горнил. Я говорил о необходимости их – для вас, очевидно, ложной, – лишь бы как-то утешить вас в ваших мыслях о невозможности освобождения от уроков по упомянутому предмету. Поверите ли, еще недавно я мог бы без труда уговорить Перилло предоставить вам свободное посещение вообще всех занятий, вам, вероятно, известно, каким авторитетом пользовался ваш покорный слуга в преподавательских кругах – в школе и в отделе народного о б о р з о в а н и я. Но с тех пор, как со мной что-то случилось – что именно, я еще не вполне осознал, я лишился всего: цветов, пиши, табака – вы заметили, я перестал курить? – женщин, проездного билета (констриктор уверяет меня, что документ давно просрочен, но купить новый я не имею возможности, поскольку меня лишили и зарплаты), развлечений, а главное – авторитета. Я просто не представляю, как это можно: меня никто не слушает – ни учителя на педсоветах, ни родители на собраниях, ни ученики на уроке. Меня даже не цитируют, как бывало прежде. Все происходит так, словно меня, Норвегова, больше нет, словно я умер. И тут Савл Петрович наполнил уборную негромким мерцающим смехом. Да, я смеюсь, – сказал он, – но сквозь слезы. Дорогой ученик и дружище Нимфея, со мной определенно что-то случилось. Раньше, еще недавно, я знал, что именно, а теперь вот, кажется, запамятовал. У меня, пользуясь вашим выражением, память стала избирательной, и я особенно рад нашей встрече здесь, в пункте М, поскольку надеюсь на вашу помощь. Помогите мне, помогите мне вспомнить, что произошло. Я просил об этом многих, но никто не мог – или не желал? – что-либо объяснить мне. Кто-то честно не знал истины, кто-то знал, но скрывал: изворачивались и врали, а кто-то просто смеялся в лицо. Вы же, насколько я знаю вас, никогда ни в чем не солжете, вы не умеете лгать.