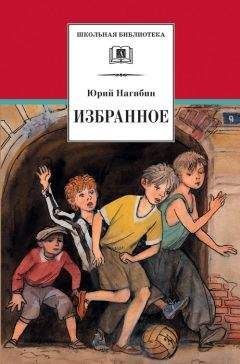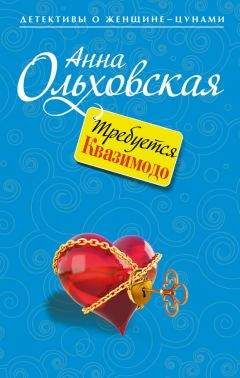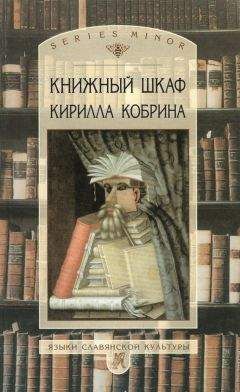Юрий Нагибин - Остров любви
Преданно любя Орантеса и смертельно боясь за него, Клифтон весь долгий путь через океан ждал, что ему принесут телеграмму, извещающую о каком-то несчастье с его другом. Слава богу, такой депеши не было. Уже на пристани в Малаге он с испугом озирался, отыскивая измазанное горем лицо Мерседес. Раз-другой он принял за нее каких-то красивых молодых испанок. Пет, Мерседес спокойно сидела в Мадриде. Похоже, что с Орантесом не стряслось никакой беды.
— Ну, успокоился? Понял, что ты в Испании? — послышался веселый голос Анни.
И когда она так сказала, сразу запахло Испанией. Запах страны — это запах ее трав и цветов. Маки — цветы дивной испанской весны — лишены запаха, как и олива и пробковый дуб — деревья Испании. Пахнут розы в парках, садах и маленьких двориках, но это всесветный аромат буржуазного благополучия. Запах страны — это запах ее кухонь. И едва вопрос жены проник в его сознание, Клифтон почуял чесночно-луковично-оливково-перечно-мясной запах, тянущий, видимо, из кухни аэродромного ресторана.
— Здравствуй, Испания! — вполголоса проговорил Эдвард Клифтон.
2…В свой первый после долгого и вынужденного перерыва приезд в Испанию Эдвард Клифтон утратил обычную выдержку, впав в какой-то томительный полусон. Он не вспоминал, не думал и почти не страдал, туманные образы наплывали на душу, тесня ее и тревожа, но не успевали оконтуриться, не то что обрести смысл или хотя бы стать отчетливым чувством.
Состояние полубреда он поддерживал обильными возлияниями. Просыпался лишь изредка — при встречах со старыми друзьями, их почти не осталось, или когда его что-то сильно удивляло. Так случилось на ферме Мигеля Бергамина, где он, к величайшему изумлению, застал Аду Гарпер, некогда научившую его ценить библейскую красоту и библейскую эротику. Она снималась в одной из его экранизаций, единственной, от которой его не тошнило. Фильм был спасен правдивостью поведения актрисы, теплотой ее интонаций. Клифтон никак не ожидал такого от избалованной кинозвезды. Живая Ада была куда менее естественна, чем на экране, но еще привлекательнее. Никогда не видел он таких тяжелых черных глаз, готовых излиться влагой наслаждения на крутые прохладные скулы, таких полных и нежных, безвольно размыкающихся при вдохе губ — у ребенка это означало бы аденоиды, а у нее — удушающую силу вожделения. Когда они расставались, Ада, покорная, бедная, растерянная, как будто просила прощения, что не перенесет разрыва. До чего же быстро это беспомощное дитя нашло успокоение в надежных объятиях красавца матадора! И еще две-три встречи вышибли его из состояния сонной одури, в котором прошло его первое свидание с Испанией. Наверное, иначе и быть не могло. Где занять трезвости, спокойствия, рассудительности, если ты возвращаешься к тому, что сделало тебя тобою, научило любви и ненависти и казалось безвозвратно утраченным? Возвращение могло быть только бредом, оно и было бредом.
Но в следующий приезд, года через три, он вернул себе способность видеть, вспоминать, сравнивать. Тогда, находясь в Мадриде, он очень много ходил, на какое-то время дома стали ему важнее людей. Он обошел все отели, где живал в двадцатые годы и в дни мадридской обороны, отыскивая на серых стенах следы снарядов и осколков фугасных бомб, и порой ему это удавалось; со сложным чувством разглядывал необитаемое с пустыми оконницами здание, которое занимали сражавшиеся на стороне Республики русские командиры, а также военные и политические советники; дом не восстанавливали и не сносили, к нему словно боялись прикоснуться, и он стоял темный, почти черный, будто обожженный, пустой и мрачно значительный. Он побывал во всех барах, начиная со своего любимого «Чикотес», ресторанах и пропахших луком харчевнях, в чудесных лавчонках, где висят связки глухарей, куропаток, фазанов над кругами сыра и бледной спаржей.
Внешне Мадрид мало изменился, особенно в центре: те же улицы и площади, дворцы и соборы, правительственные здания и учреждения, музеи и банки, доходные дома, магазины, антикварные, книжные и сувенирные лавки с толедской сталью, веерами, пышными юбками для фламенго, мулетами, бандерильями и прочими причиндалами для любителей корриды; все так же трусят на своих одрах Дон Кихот и Санчо Панса и смотрит им в спину огромный костлявый Сервантес; целы все памятники, и бьют все фонтаны, не изменили привычным маршрутам трамваи и автобусы; постоянна нарядная безликость этого самого испанского города Испании, если забыть о Пуэрто-дель-Солль, хорошо пропахшей чесноком, дешевым вином и горелым оливковым маслом. Лишь больше стало кинотеатров с кричащими рекламами, да всюду висят портреты каудильо. Мадрид мало изменился и при этом стал неузнаваем. Ведь главное не внешний вид, а дух города. Толпа стала чужой. От нее больше не шли привычные токи, которым он так чутко отзывался. Та же вежливость, та же приветливая серьезность, что и прежде, но чего-то недоставало — открытости, доверчивости, люди были заперты, заперты на сто замков, к ним не пробиться.
Чем пристальнее вглядывался он в окружающих, тем сильнее чувствовал, что не только он им чужой, но они чужие друг другу. Он помнил испанцев, живших надеждой, помнил живших борьбой, помнил, как исступленная вера в победу сменялась отчаянием, но никогда не видел их просто существующими — без надежды, веры, готовности к отпору и гибели. Сейчас люди жили машинально, изо дня в день, подчиняясь простой физиологии, необходимости есть, пить, воспроизводить себя в потомство. Для удовлетворения этих потребностей они должны были работать столько то часов в день, а чтобы иметь работу, строго выполнять все предписания режима и главное — молчать. А ведь были среди этих молчащих, запертых людей участники боев за Республику бывшие солдаты, шоферы, телефонисты, санитары, чье плечо он ощущал, вжимаясь в сухую стенку окопа, с кем делился глотком теплой воды из фляги и плесневелым сухарем, с кем трясся на горных дорогах в изрешеченных пулями и осколками грузовиках, с кем обменивался шутками, и ругательствами, и адресами, чтобы списаться и встретиться после победы. Конечно, многие были расстреляны, замордованы в тюрьмах, сосланы в колонии, другие бежали — он встречал бывших бойцов-республиканцев в разных частях света, больше всего их осело во Французском Марокко. Но ведь кто-то уцелел и продолжал жить при новом режиме, пусть под подозрением, пусть дрожа за свою жизнь, но постепенно свыкаясь и с дрожью, и с непрочным сном, и с затычкой во рту, которую не выталкиваешь ни спьяна, ни в любовном забытьи, ни в запальчивости. Но они не давали себя обнаружить. Клифтон думал о том, что своим детям они с самых ранних лет внушают правила лжи, двоедушия и умалчивания, что тоже ложь, хоть и пассивная, учат их двойной бухгалтерии бытия — для дома и для общества. И как безмерно и страшно пластичен человек, если пепел Герники, пепел всех уничтоженных свинцом, сталью, огнем, пенькой палаческих захлесток не стучит ни в одно сердце. Нет, это невозможно, ведь есть же память, как ни истребляй ее, память о свободе, память о борьбе, память о том легендарном времени, когда ты был человеком; но тщетно пытался Клифтон разбудить эту память в людях, с которыми удалось сойтись покороче. Возможно, он и будил эту память, но никто не признавался в том хоть взглядом, хоть вздохом. Он заговаривал с пожилыми барменами, со стариками портье, со слепцами, продававшими лотерейные билеты на углах центральных улиц, но все ускользали от разговора в глухоту физическую и душевную, в беспамятство, в идиотизм. А иные давали злобный отпор, и он чувствовал себя провокатором, правительственным шпионом. Не существует людей, которым нечего терять. Привратник мог лишиться чулана под лестницей, слепцы — лотерейных билетов, паралитик — грошовой пенсии, бродяги — простора.
И Клифтон оставил бесплодные попытки извлечь из мертвых кукол память Овьедо, Гвадалахары, Карабанчеля. В конце концов он не для этого сюда ехал. Он ехал на фиесту, как жизнь назад, ибо минувшие с его первой Великой фиесты годы вместили целую жизнь — и не только его собственную, но и мира. И поколение сыновей, опередив отцов, уцелевших в первой мировой войне, сошло в братскую могилу второй мировой. Но опять как ни в чем не бывало зазвенит Памплона своей ярмаркой, прольется кровь быков и кровь человеческая во славу бесцельного и благословенного мужества. Хорошо, что Памплона остается Памплоной, может, это самый верный залог того, что Франко невечен, что его режим, такой прочный в своей безнадежности и такой безнадежный в своей прочности, — лишь черная страница в исторической жизни народа, который в основе своей остается все тем лее: добрым и жестоким, суеверным и беспечным, храбрым, гордым, честным, на редкость мужественным и вместе с тем приученным подчиняться силе — и живым, живым, вопреки всему живым!..
И Памплона его не подвела. Все было как в старое доброе время. Та же великолепная, брызжущая весельем, самозабвенная, лихая толпа, орущая песни до хрипоты, ночь напролет отплясывающая рио-рио, подставляющая спины возбужденным быкам, когда их гонят по узким улицам из стойла к цирку, полупьяная, воняющая потом, чесноком и дешевым вином, задиристая и добродушия толпа, не думающая ни о чем, кроме праздника, и напрочь забывшая о маленьком, злом и всесильном человеке, пытающемся остановить время. А потом началась коррида и свершилось явление Орантеса. И Клифтон понял, что стоило прийти в этот мир лишь ради того, чтобы увидеть Хосе на арене. Его ките было верхом совершенства, с мулетой он работал безукоризненно и убивал с таким изяществом, что хотелось стать быком и получить этот наисовершеннейший удар в загривок. Он был лучше своего отца, лучше всех на свете. На памяти Клифтона никто не работал так близко к быку, на пределе риска, так бесстрашно и легко, даже Бельмонте поры расцвета. Ну, что там много говорить: он был как Гойя, как Лев Толстой, как Сезанн, как Джо Луис, как ди Маджио, как самые великие в человечестве.