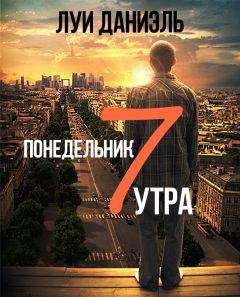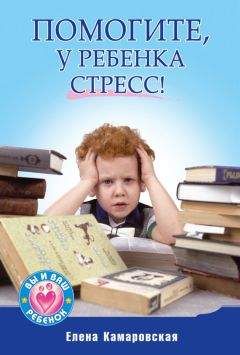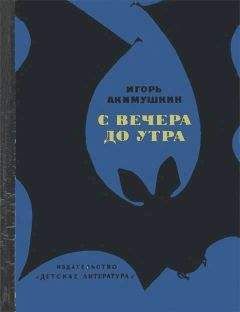Ирина Ясина - Книга волшебных историй (сборник)
Телефон звонит снова, и это снова Серафима Густавовна. Виктор Борисович еще раз спрашивает, не передумали ли вы. Я не передумала. Разговор окончен. В телефоне короткие гудки, и я понимаю, что на этот раз я пропала. Я никому не нужна, если я не нужна себе.
В сказочных историях полагается триада. Три богатыря. Три сестрицы под окном. Три желания. Три испытания для героя. Телефон звонит в третий раз. Боже, до чего они настойчивы, мои великие проницательные старики, не понаслышке знающие, почем фунт лиха и взявшие на себя добровольный долг по моему спасению. Поздно, говорю я, поздно, так и так до двенадцати я не успеваю. Успеете, говорит Серафима Густавовна, имеется знакомый таксист Саша, он часто нас выручает, давайте ваш адрес, мы позвоним ему, он за вами заедет, одевайтесь.
У меня есть одно новое платье, красивое, бледно-сиреневое, с таинственным сверканием, я надеваю его, бросаю туфли на шпильке в сумку и тупо гляжу на часы. Двадцать минут двенадцатого. Звонок в дверь. На пороге белокурый, с вьющимися волосами и голубыми глазами, моложе меня, вполне сошел бы за ангела, кабы не вислый нос с грубо вырезанными ноздрями, портящий всю картину. С лица, однако, не воду пить. Я с сомнением качаю головой: не успеем. Обязательно успеем, с уверенностью бросает посланец небес.
Мы выходим на улицу, он, с повадками лорда, не торопясь, распахивает передо мной дверцу «Волги» с шашечками, я сажусь, он садится со своей стороны, и мы рвем с места.
Движение на удивление интенсивно. Наша «Волга» ловко проскальзывает между другими «Волгами» и «Москвичами», уверовав в мастерство водителя, я внутренне как-то успокаиваюсь – знаете, как это бывает, когда в редкие минуты воз жизни везет за вас кто-то другой, а не вы сами.
Идет снег, «дворники» не успевают чистить лобовое стекло, свет от подфарников впереди идущих машин, расплываясь в снежной пелене, расчерчивает пространство красными огнями, встречный поток светится белыми. Там рубины, здесь брильянты. Новогодняя сказка. Я и не думала, что в этот час такое множество людей все еще беспокойно носятся по дорогам, образуя армию неудачников, – удачники давно у елки, за столом или возле стола, с белозубыми улыбками и блестящими глазами, готовые к приему счастья.
Ближе к выезду из города машины стали пропадать. Загудел ветер, в свете дорожных фонарей завертелись снежные вихри, исполняя сумасшедшие танцы. Поднялась метель, пушкинская метель. Скоро дорогу занесло, окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега, небо слилось с землею, Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу, лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала в сугроб, то проваливалась в яму, сани поминутно опрокидывались. Не лошадь, а машина везла нас, не Владимир – Александр вцепился в руль, я находилась в здравом уме и доброй памяти, в бороздках мозга крутился текст, памятный с детства, слова шли на ум сами собой, моя забава и лечеба. Сжавшись в комок, затаилась, не испуганная, нет, чего мне было пугаться, жизнью в те мгновения я не дорожила, но как-то странно оцепеневшая, как будто со стороны наблюдая происходившее с нами. Встречная машина на секунду ослепила и пропала из глаз, у нашей, казалось, колеса разъезжались, как ноги у теленка на льду, таксист Саша с трудом выправлял ее ход. Опоздаем, только и спросила я. Ничуть, домчимся вовремя, почти безмятежно откликнулся он.
Между тем как раз мчаться-то нам и было заказано, если мы желали удержаться на колесах. Мой ангел понял это раньше меня и сбавил скорость.
Теперь мы были одни на дороге. Одни во всем подлунном мире. Часы показывали без десяти. Я отпустила себя, впав в пустоту, как в дремоту.
Сквозь марево пустоты пробилось – Саша тормозит. Подумалось: или поломка, или кончился бензин. Машина встала. Я вопросительно глянула на водителя. Он глянул на меня. Вы знаете, что сейчас произойдет, спросил он. Нет, сказала я. Новый год, сказал он. Полез в карман куртки и вынул яблоко. С хрустом разломив пополам, одну половинку протянул мне: чокнемся? И мы чокнулись двумя половинками зеленого яблока, и я до сих пор помню его как живое. С Новым годом, сказал он. С Новым годом, засмеялась я. В первый раз в новом году.
Никогда, ни до, ни после, я не встречала Новый год таким удивительным образом.
Мы опоздали. Мобильников тогда не было, мы не могли предупредить, что опаздываем. Мы вошли в дом к Шкловским в полпервого ночи, заснеженные, прозябшие, нас ждали, нас целовали, а мы рассказывали про пушкинскую метель, и Виктор Борисович одобрительно посмеивался в усы: все правильно, пушкинское и должно было непременно случиться с вами, пушкинское или пастернаковское. И процитировал: я тоже какой-то, я сбился с дороги, не тот это город, и полночь не та. Две последние строки были у меня на слуху – я не знала, что это из пастернаковской «Метели».
Меня посадили рядом с Наташей Пастернак, а в полдень следующего дня она зашла за мной и повела на дачу Бориса Леонидовича, и я ходила по половицам, по которым ходил он, и сидела на стуле, на котором сидел он, и смотрела из окна, из которого смотрел он, и больше не была одинока. Меня поставили в ряд – не гениев, нет, просто людей страны, где бедствий на душу населения – каждую душу! – более чем предостаточно.
Шкловские поделились со мной таксистом Сашей, какое-то время он помогал мне, пока не пропал.
С Наташей, женой сына Бориса Леонидовича, мы подружились и дружили, пока жизнь не развела нас.
Когда в Доме кино праздновали 90-летие Шкловского, он попросил меня выступить, и я выступала.
Ему принадлежит предисловие к первой моей книжке:
Каждый новый шаг в литературе и искусстве – шаг вперед, и в то же время он кажется началом какого-то падения. Человек, перемещая ощущение своего веса, как бы падает вперед. Другая быстрая нога исправляет падение. Новое в искусстве начинается трудно, потому что это не только человек изменяется в своих движениях и поступках. Это меняются поступки мира. Старый мир уходит с подмостков. Я просматривал сжатые строки газетных отзывов и привыкал к новой фамилии: Кучкина… Эти заметки написаны не вдогонку. Они написаны навстречу.
С Виктором Борисовичем мы были дружны до его кончины.
Юрий Левитанский
Колыбельная песенка
Баюшки-баю, уснула трава,
филин уснул, и уснула сова,
только одна в эту пору не спит
гнусная жаба Ква-Ква,
гнусная жаба Ква-Ква,
Ква-Ква,
Ква-Ква.
В черном болоте у черных ворот
гнусная жаба ночами орет,
спи, а не то и тебя заберет
гнусная жаба Ква-Ква,
гнусная жаба Ква-Ква,
Ква-Ква,
Ква-Ква.
Будешь ты черную травку жевать,
будешь ты филину спать не давать,
будут сороки тебя называть
гнусная жаба Ква-Ква,
гнусная жаба Ква-Ква,
Ква-Ква,
Ква-Ква.
Черная тучка по небу идет,
белую тучку за ручку ведет,
спи, и тебя ни за что не найдет
гнусная жаба Ква-Ква,
гнусная жаба Ква-Ква,
Ква-Ква,
Ква-Ква.
Песня храбрых капитанов
Склянки-банки, шквал упрямый,
склянки-банки, не дрожать.
Самый полный! Самый-самый!
Так держать!
Есть так держать!
Эй, команда, тумба-юмба,
слабых, чур, не обижать.
Тумба-юмба, на два румба!
Так держать!
Есть так держать!
Всем приятно, майна-вира,
руку честную пожать.
Майна-вира, два пломбира.
Так держать!
Есть так держать!
Эй, команда, фокус-покус,
судно на мель не сажать!
Фокус-покус, эскимокус.
Так держать!
Есть так держать!
Всем известно, аден-баден,
Храбрых надо уважать.
Аден-баден, мармеладен.
Так держать!
Есть так держать!
Склянки-банки, шквал упрямый
Качки нам не избежать.
Самый полный! Самый-самый!
Так держать!
Есть так держать!
Рената Литвинова
Прощальный ракурс
Это было в юности.
Я попала в туберкулезный санаторий, где нас поили кислородным коктейлем и на руке я носила вечно воспаленную пробу Манту.
В одно солнечное утро ко мне в комнату подселили соседку.
Она вошла с чемоданчиком и застыла в дверях – я сразу заметила что-то странное в ее фигуре.
Когда она повернулась к своей кровати, я с детским ужасом увидела, что на спине у нее огромный горб!
– Здравствуйте, я Клавдия, – сообщила она мне тихим голосом, поспешно сев на кровать и спрятав от меня горб, повернув его к стене.
На что я тут же спросила:
– У вас что, еще и туберкулез?
Вместо ответа она посмотрела на меня и усмехнулась, обнаружив «чувство черного юмора», как охарактеризовала себя позже.
Клавдии было лет восемнадцать, но из-за воскового цвета лица можно было дать и тридцать, а из-за подростковой худобы издалека она походила на девочку 13 лет.
С первого и до последнего дня она меня поражала.
Сначала вынула из чемоданчика нецветную, как из журнала, фотографию какого-то «принца» – юноши в военном кителе и прикрепила на стену как раз напротив подушки.