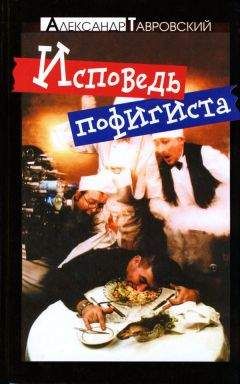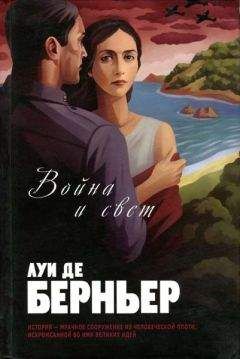Луи де Берньер - Мандолина капитана Корелли
Греки взяли Самарини и оказались позади нас. Мы ничего не ели, кроме галет, шелушившихся, как золотушные. Начался падеж лошадей, а мы стали их есть. Маленькие греческие лошадки, слишком упрямые, чтобы умирать, несли на нас своих всадников. Нам было приказано отступить к Конице, и назад пришлось пробиваться из окружения.
Мы стали безымянными. Обросли огромными бородами, нас похоронило бурями и дождем со снегом, глаза глубоко ввалились, все обмундирование залепило ледяной коркой; руки нам точно изодрали кошки, а пальцы превратились в корявые свинцовые клюшки. У Франческо был такой же вид, как и у меня, а я выглядел, как все; мы жили в каменном веке. За несколько дней мы превратились в скелеты, рывшиеся, как свиньи, в поисках еды.
Наконец-то мы увидели итальянский бомбардировщик. Мы замахали ему, он сделал круг и сбросил бомбу, которая в нас немного не попала, но убила трех наших мулов. Мы отрезали куски мяса и ели их сырыми, а мулы были еще теплыми и шевелились. Рации вышли из строя. Стало ясно, что греки сосредоточивают войска как раз в тех местах, где мы наиболее уязвимы. Они начали по одному отстреливать изолированные подразделения, брали их в плен. «Повезло гадам, – говорил Франческо, – готов спорить, что в Афинах жарко». Ночью мы с ним спали, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Для плотских желаний я был слишком изможден. Все так спали. Я хотел только защитить его.
Нашего командующего сместили и заменили генералом Содду, которого, конечно же, мы прозвали «генерал Содомия». Висконти Праска потерял затем и пост командующего Одиннадцатой армией. Как могущественны падшие! Он был метеором, который оказался просто-напросто раскаленным пердежом. Все наше командование – сплошной раскаленный пердёж, начиная с Муссолини, который его набирал.
Мы отступали к Конице, как раненый гигант, терзаемый дикими стаями разъяренных собак. То был ад пулеметного и артиллерийского огня, минометов и льда. Местное население охотилось за нами с охотничьими ружьями и рогатками. Прошла целая неделя без еды и отдыха. Бои на расстоянии прямой наводки шли по восемь часов кряду. Мы потеряли сотни товарищей. Горы стали братством мертвецов. Мы продолжали воевать, но пали духом. Великая тьма опустилась на землю. Франческо разговаривал со своим мышонком, даже находясь в засаде или во время внезапного продольного огня, да и мы все уже были на грани безумия. Мы подошли к нашей старой позиции у моста Перати, напрасно пожертвовав пятой частью своего состава. Я огляделся и испытал осязаемый ужас от непоправимого отсутствия людей, которых я полюбил, чье неукротимое мужество никогда и никто не сможет подвергнуть сомнению или легкомысленно оспорить. Война – чудесная штука. В кино и книгах. В небе над нашими головами стали появляться «гладиаторы», «веллингтоны» и «бленхаймы» – англичане таким образом добавили своей силы вонзенным в нас греческим кинжалам и теперь проворачивали их в наших ранах. Генерал Содду приехал с проверкой и сравнил нас с гранитом. «А на Голгофе, – спросил Франческо, – гранит сочится кровью?»
16. Письма Мандрасу на фронт
Агапетон,[68]
я так давно уже ничего не слышала о тебе, ты не писал с того самого, печального дня, когда я проводила тебя из Сами. Я пишу тебе каждый день и начинаю думать, что ты так и не получил моих писем или твои ответы не дошли до меня из-за войны. Вчера я написала самое лучшее письмо, там совершенно всё было сказано, и хочешь верь, хочешь нет, его съел козленок. Я была в ярости и побила его по башке ботинком. Наверное, это была забавная картина, и я знаю, ты бы смеялся, если бы увидел. Каждый раз, когда я что-то вижу, мне хочется, чтобы ты оказался рядом и увидел это сам. Я стараюсь все замечать для тебя, запоминать и фантазирую, что если напрягусь как следует, то смогу передать это тебе, чтобы ты мог все увидеть во сне. Если бы так было в жизни.
Мне так страшно, что от тебя нет писем потому, что тебя ранили или ты попал в плен, а ночью снятся кошмары, что тебя убили. Пожалуйста, пожалуйста, напиши мне, чтобы я снова могла дышать, чтобы сердце у меня успокоилось. Каждый день я жду тех, кто возвращается из Аргостоли с почтой для деревни, выбегаю, и каждый день – ничего, и я просто в отчаянии и не знаю, что делать, а в голове всё горит от беспокойства. Ну вот, сейчас декабрь, дни стоят очень холодные, солнца нет, дожди почти каждый день, и я представляю, что это небо плачет, как я. Меня знобит, когда подумаю, как же холодно должно быть в горах Эпира. Ты получил носки, что я связала для тебя, рыбацкий свитер и шарф? Правильно, что покрасила их в хаки? Или у меня ума не хватило сделать их белыми? Я надеюсь, что ты получил кофе, кувшинчик с медом и копченое мясо. Бедный мой милый, как тебе, наверное, там холодно, в этом диком месте, так далеко, что это почти чужая страна. Как ты, наверное, скучаешь по своей лодке, по своим дельфинам; а ты понял, что я знала о твоих дельфинах, которых теперь некому кормить рыбой, пока ты не вернешься?
Здесь всё то же самое, только начинает всего не хватать. Вчера я не смогла достать керосина для ламп, а на прошлой неделе не было муки, чтобы испечь хлеб. Отец сделал такие лампы с фитилем – он продел его сквозь пробку и пустил плавать в миску с оливковым маслом; он говорит, так в древности делали, но света мало, они сильно чадят и плохо пахнут. Кто бы мог подумать, что можно скучать по керосину?
Все говорят, как тихо и уныло у нас теперь стало, когда ушли все молодые мужчины, и мы гадаем, сколько из них вернется. Мне сказали, что Димоса убили, а жених Мариго попал в плен. Когда я слышу такое, я благодарю Бога, что это не ты, хотя это ужасно – желать, чтобы несчастье свалилось на других. Если тебя убьют, я не вынесу. Думаю, я сама умру. Я хочу предложить Господу взять меня вместо тебя, только чтобы ты жил. Нам, женщинам, стыдно, что мы не можем принести жертву, сравнимую с вашей, но каждая из нас взяла бы ружье и пошла бы с вами, если б это было возможно и разрешили сделать. Папакис дал мне маленький пистолет, и ночью я Кладу его под подушку, а днем ношу в кармане фартука. Если остров захватят, то здесь найдутся женщины и старики, которые будут стоять насмерть с метлами и кухонными ножами, – мы уже привыкли делать то, что раньше делали мужчины. Мы только не сидим в кофейне и не играем в триктрак. Мы часто ходим в церковь, а отец Арсений произнес много чудесных и трогательных проповедей. Он рассказал нам, что икона святого Иоанна сама по себе появилась перед пещерой, где жил Герасим, и это объявили подлинным архитворением. Кажется, даже Господь посылает нам знаки и показывает, что наше дело правое. Кто-то на днях сказал мне, что мы – единственная страна, не считая Британской империи, которая все еще сражается. Когда я думаю об этом, силы прибавляются – ведь это самая большая империя, какая только существовала в мире, а раз так, то как же мы можем проиграть? Я часто вижу английские военные корабли – они такие большие, что просто невероятно, как же они плавают. Я знаю, мы победим.
Вести с фронта такие хорошие, что кажется, победа нам обеспечена. Каждый день мы слышим, что все больше итальянских частей отогнали или разбили, и нам радостно, как Давиду, поразившему Голиафа. Кто бы мог поверить в это всего два месяца назад? Это казалось невозможным. Мы послали вас сражаться с ними ради чести, без надежды на успех, а теперь мы ждем вас домой как героев-победителей. Вся Греция разрывается от гордости и благодарности нашим мужчинам – великим больше, чем Ахилл и Агамемнон, вместе взятые. Говорят, вы отвоевали всю землю, из-за которой были споры в прошлом, и просто выбросили итальянцев из Албании. Какие вы молодцы, ваши имена будут жить вечно в сердцах греков, и мир навсегда запомнит, что случается, если кто-то посмеет нас обидеть! Мы так гордимся, мой Мандрас, так гордимся! Мы ходим с высоко поднятой головой и помним славное прошлое, которое римляне и турки отобрали у нас, а ты и твои товарищи наконец-то нам вернули. Настанет день, когда мы с Британской империей встанем рядом и скажем миру: «Это мы сделали вас свободными», а американцы, русские и другие пойти и пилаты опустят головы, и им станет стыдно, что вся слава досталась нам.
Дух войны здесь всех переменил. Папас, так сильно не любивший Метаксаса, Коколис, а ведь он коммунист, Стаматис, а этот – монархист, – все в один голос провозглашают Метаксаса величайшим греком со времен Перикла и Александра, и все превозносят военные успехи Папагоса. Они вместе трудятся, собирают посылки для солдат, а отец даже вызвался пойти на фронт врачом. Ему отказали, когда узнали, что он научился всему на кораблях и у него нет свидетельства. Ты бы видел его ярость! Он топал ногами по всему дому, я никогда не слышала, чтобы он произносил слово «хестон»[69] так часто и с такой злостью. Я рада, что его не пустили, но это несправедливо, потому что даже богатые люди приезжали к нему, а не шли к докторам с дипломами. У него дар исцеления, как у святого, – он только коснется раны, и та начинает заживать.