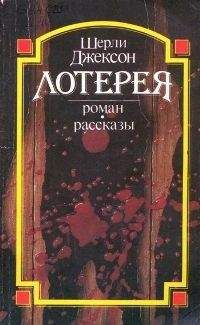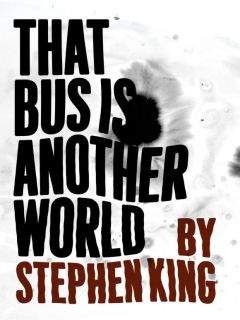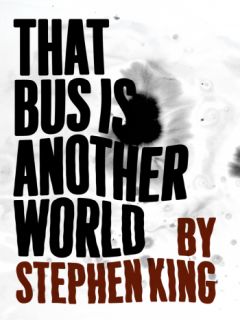Франц Верфель - Сорок дней Муса-Дага
А когда большая группа старших офицеров приблизилась к высоте, Габриэл медленно шагнул навстречу им. Сделал он это даже несколько небрежно, словно стыдясь всех этих воинских формальностей. Ружье он оставил на земле и был похож сейчас на охотника или археолога. Чуть приподняв помятый тропический шлем, Габриэл представился коитр-ад-миралу. Несколько секунд старый моряк смотрел на него проницательным взглядом, затем протянул руку.
– Вы были здесь командиром?
Габриэл почему-то сразу показал на гаубицы, будто это было так важно – дать знать спасителям, что воевал он не с пустыми руками.
– Господин адмирал, я передаю вам, а тем самым и французской нации, эти два орудия. Мы отбили их у турок.
Контр-адмирал, знавший толк в торжественных церемониях, встал «смирно». Офицеры последовали его примеру.
– Благодарю вас от имени французской нации. Она принимает на хранение этот победоносный трофей сынов Армении. – Он еще раз пожал руку Багратяну.
– Захват этих гаубиц ваша личная заслуга?
– Это заслуга моего сына. Он убит.
Наступило молчание. Отбросив бамбуковой палочкой камешек в сторону, контр-адмирал обратился к свите:
– Можно ли спустить эти орудия на берег, а затем погрузить на борт?
Офицер, призванный ответить на этот вопрос, усомнился. Если поднять сюда необходимое снаряжение, то с большими трудностями это возможно осуществить. Но для этого понадобится не менее суток.
После небольшого раздумья его превосходительство решило:
– Позаботьтесь о том, чтобы гаубицы были приведены в негодность. Самое надежное – взорвать их. Однако будьте при этом осмотрительны.
«Тем лучше, – подумал Багратян, – двумя пушками меньше на земле!».
И все же это решение он принял с болью. Стефан! Но адмирал поспешил утешить его:
– Вы оказали благому делу большую услугу, даже если теперь гаубицы будут уничтожены.
Этими словами был дан сигнал к переходу от торжественной части к деловой. Контр-адмирал попросил описать ему весь ход оборонительных боев, а также саму систему обороны. Габриэл в нескольких словах выполнил просьбу. Но при этом его охватило великое нетерпение. Эти чисто умытые, благоухающие господа в своих безупречных мундирах смотрят на разрывающую сердце реальность сорока дней со снисходительным интересом – для них это военная игра, разыгранная дилетантами! Три сражения! Разве это было самым важным? Да и что знают эти вылощенные господа об армянской судьбе? Что знают они о каждой отдельной судьбе, разбитой здесь, на Муса-даге?
Нетерпение его перешло в брезгливость. Не лучше ли ему повернуться и уйтл? Он же теперь частное лицо, ему надо позаботиться о Жюльетте и об Искуи. Надо их как следует устроить. Да нет, ради бога, нет! Французы – чудом посланные спасители и вполне справедливо могут претендовать на безоговорочную благодарность…
Следуя своей обычной основательности, контр-адмирал высказал пожелание осмотреть и главное поле сражения – Северное Седло. Понизив голос, он приказал свите записывать все услышанное. Несомненно, он намеревался представить подробный отчет в военно-морское министерство. Спасение семи армянских общин, в конце концов, было делом не только важным, но и громким. Габриэлу Багратяну не оставалось ничего другого, как исполнить желание его превосходительства. Он тут же послал вестового к Чаушу Нурхану. Одновременно под командованием нескольких младших офицеров в путь тронулась часть морской пехоты с одним пулеметом – следовало обеспечить безопасность командующего эскадрой.
Когда полчаса спустя Габриэл со всем штабом прибыл в район Седловины, Чауш Нурхан уже кое-как построил своих дружинников, дабы должным образом, по-солдатски, встретить французов. Габриэл, оставив адмирала, подошел к старому воину и обнял его:
– Вот и все кончилось, Чауш Нурхан! Благодарю тебя! Благодарю и каждого из вас!
И рухнул весь строй, и заросшие сыны Армении обступили Багратяна. Многие стремились поймать его руку, чтобы прижать к губам. И было в этой преданности своему командиру что-то от недоверия к блистательной свите адмирала. Ну а пораженные офицеры смотрели на эту совсем не уставную, но такую мужественную сцену с искренним волнением.
После краткого осмотра окопов и скал-баррикад адмирал счел своим долгом отличить Габриэла Багратяна и все его войско соответственной речью. И сделал он это с присущим французам красноречием, не забывая, однако, и о сдержанности, которая соответствовала как его должности, так и его вере.
– Героические поступки в наши дни совершаются во многих странах, и на многих морях – во всем мире. Но тогда обычно противостоят друг другу обученные и обстрелянные солдаты. Здесь же, на Муса-даге, в вашем распоряжении находились простые мирные крестьяне и ремесленники. И тем не менее под вашим водительством, командир, эта группа плохо вооруженных селян не только отважно сражалась с превосходящими силами противника, но и героически выстояла в отчаянной схватке не на жизнь, а на смерть! Подобная отвага и мужество достойны того, чтобы их помнили века. И стало это возможно только с божьей помощью. А Бог помогал вам потому, что сражались вы не только за себя, но и за его священный крест. Тем самым вы проявили высший героизм – подлинно христианский героизм, а он защищает нечто более возвышенное, нежели дом и очаг. Моими устами французская нация высказывает вам свою благодарность и горда своей помощью вам. А я лично рад, что могу всех вас без исключения взять на борт, и сообщаю, что моя эскадра переправит вас в один из египетских портов – Порт-Саид или Александрию…
В ответ на эту прочувствованную речь Габриэл Багратян глубоко поклонился. Держа маленькую теплую руку его превосходительства в своей, он думал:
«Порт-Саид, Александрия – и я? Что мне там надо? Сидеть в лагере? И почему я?».
В ясном и твердом взгляде старого адмирала мелькнул огонек симпатии, и он чуть не отеческим тоном сказал:
– Мосье Багратян, приглашаю вас быть моим гостем на «Жанне д’Арк»…
Он не стал ждать благодарности, а вытащил из маленького кожаного мешочка толстые, вполне штатские часы и посмотрел на них несколько озабоченно.
– А теперь я просил бы оказать мне честь и познакомить с мадам Багратян. В свое время я был коротко знаком с ее отцом…
Ночью Жюльетта всеми ремешками и шнурками, какие ей только удалось найти, завязала вход в палатку. Для ее ослабевших рук это была трудная работа и, завершив ее, она едва дотащилась до кровати. Не из страха перед новым нападением бандитов она так тщательно закрывала свою палатку. Странным образом в ее душе гораздо более глубокий след, чем появление Длинноволосого, чем то, что Сато сорвала с нее одеяло, оставили, казалось бы, безразличные видения наяву. Она запиралась, чтобы никогда более не видеть света, чтобы никогда больше не наступал день, чтобы быть одной на своем ложе, подложить под голову свою любимую кружевную подушечку и никогда больше не подниматься. Она видела себя замурованной! И когда вокруг ее словно в коконе спрятанного «я» стало совсем темно и уютно, и она почувствовала себя зябко-хорошо, то не было уже Муса-дага, и сына она не потеряла, и турки не напирали, чтобы убить ее. Как по волшебству, вся внутренность палатки превратилась во внутренний мир ее самое, за пределами которого только понаслышке знали о каком-то опасном внешнем мире. И в то время как о рассудке ее никак нельзя было сказать, что он в себе, о ней самой, о существе ее, о самой сути можно было утверждать, что она в высшей степени «в себе».