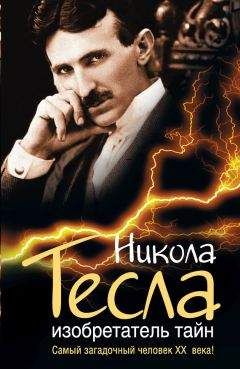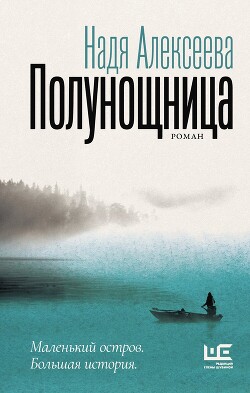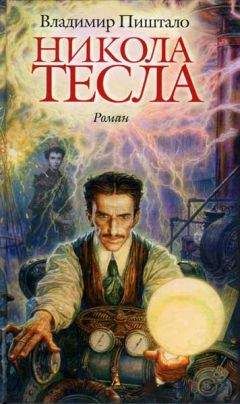Белград - Алексеева Надежда "Багирра"
Леокардия была невозмутима, но экскурсантка не унималась:
– А мать, что мать Чехова про Книппер говорила?
– Евгения Яковлевна была очень интеллигентна. Вот, кстати, ее спальня и портрет, написанный Марией Павловной.
Портрет висел над диваном, обитым тканью в горошек (мама тоже такое любит). Аня обернулась, пробежалась глазами по группе – мамы нет. Протолкалась, спустилась по лестнице, заглянула в комнату Книппер: ее вальяжный портрет в белом висел над туалетным столиком с фигуристыми склянками духов. Часы на стене стучали нервно. Пахло каким-то лекарством.
Мамы нигде не видно.
Тут из сада донесся знакомый голос. Мама сидела на скамейке Книппер, под той самой грушей, приложив какую-то белую тряпку к голове, и глотала что-то из рюмки. По запаху – корвалол. Рядом женщина обмахивала ее папкой «Белая дача А.П.Чехова»:
– Успокойтесь, ничего страшного! Мы утром, когда отпираем дом, там будто кто ночевал. Чаем пахнет, жильем. Зимой и печи теплые, хотя обогревателями топим.
– Мам? – Аня поспешила к скамье.
Мама замахала на нее руками и со щелчком пластика вытянула всю воду из бутылочки. Женщина с папкой шепотом сказала, что мама на лестнице увидела Книппер.
– Я сфотографировать хотела, как ты поднимаешься, для Руслана, – слабым голосом произнесла мама. – Так темно стало сразу, смотрю, крадется какая-то женщина с пучком на затылке, платье светлое, длинное, у тебя таких сроду не было. Еще так обернулась на меня, зубы блестят, чисто цыганка. Телефон вот выронила, – протянула мобильный Ане.
По экрану расползлась паутина трещинок. Но телефон работал. Женщина во время всего этого рассказа кивала так, будто они с мамой вместе фильм посмотрели в кинотеатре. Делятся впечатлениями.
– Может, это Мапа, Мария Пална, была? – предположила Аня.
– Ну что вы, зачем ей красться. Она здесь хозяйка.
– А Евгения Яковлевна?
– Мамаша боялась этого дома, переезжать из Мелихово не хотела. Да и дом стоит… – женщина скосила взгляд куда-то за ограду. – В общем, тут татарское кладбище было. Пока Чехов сад размечал, троих успели закопать чуть ли не за забором.
Когда прием, точнее завтрак, устроенный Фанни Татариновой для МХТ, отгремел, самые близкие отправились пить чай к Чеховым. По весне дом заново оштукатурили: сперва ямщики, а потом и вся Ялта прозвала его Белой дачей. Чехов не возражал.
Он смотрел, как Ольга, закатав рукава и обтянувшись передником, носится из кухни на веранду, помогая Мапе накрывать на стол. По тому, как церемонно они пропускали друг друга в узких дверях, – понял: эти никогда не поладят. На кухню, где Дарьюшка, мелиховская кухарка, царила в чаду и пирогах, повязавшись платком по-татарски, с узелком на голове, сегодня он даже не заглядывал. И мамашу не пускал.
Бунин, окая на манер Горького и горячась, как Фанни, изобразил их диалог:
– Образование для женщин, обеспечить знание языков, курсы машинисток!
– Работа, конечно, проделана огромная…
– Именно что огромная! Напечатала в своей типографии буклеты, всем раздала в Ялте.
– …но никому не нужная, – закончил Бунин на манер Горького.
Чехов прыснул.
– Да перестаньте! – сказал Алексеев. – Мы от Горького новую пьесу ждем. Да и при Евгении Яковлевне неловко злословить.
– Дарьюшка говорит, что буклетами этими хорошо варенье абрикосовое закрывать, – парировала мамаша.
Гастроли ялтинские, постоянное дребезжание недавно установленного в кабинете телефона, стук в дверь, ночные скрипы лестницы, которые они с Ольгой старались скрывать, но выходило неважно и глупо, мамашу, надо полагать, порядком утомили. Да и сам Чехов уже ждал отъезда труппы, чтобы всерьез взяться за новую пьесу.
– А все-таки забавная она, эта Татаринова. Вам бы, Константин Сергеевич, взять ее к себе педагогом, – обратился Чехов к Алексееву. – Да хоть по вокалу. Она же певица профессиональная.
– Боюсь, она уже служит… – Бунин выдержал паузу. – Делу эмансипации.
Как только вошла Мапа, он принял серьезный вид, перевел разговор на другое. Ольга, вроде бы и не выбирая места, опередила Мапу, села на стул возле Чехова. Она ступала мягко, неслышно. И так же вкрадчиво поддакивала Алексееву про «скорее бы прочесть новую чеховскую пьесу», предвкушая свой будущий триумф.
…Ольга поднялась к Чехову в комнату в тот же вечер, как приехала; он только вернулся от Татариновой. Не постучалась. В руках держала что-то темное, в свете керосинки показалось – тот бархатный берет. Прошептала:
– Это подарок.
Протянула ему тяжелое, прохладное, старинное.
– В компанию к твоим слоникам.
Когда она их видела? Неужели и впрямь приходила проститься? Он помнил, что сидел в тот день в кабинете за московскими сценами «Дамы с собачкой». Они шли тяжко, мучительно. Впрочем, супруга Гурова, которой он отдал брови Алексеева и эмансипацию Татариновой, добавив старорусскую манеру обращаться к мужу «Димитрий», вышла удачно. Автору не требовалось нарочно раздражать Гурова – супруга справлялась. А потом, когда текст снова застрял, Чехову померещилось Ольгино лицо за окном. Он вернулся к листу – и еще долго видел на белом ее черты: острый носик, стрелки ресниц… Рука написала: «В декабре на праздниках он собрался в дорогу…».
Это была округлая шкатулка из дерева. Темную землю держали три кита, плывущие по часовой стрелке, а сверху, на крышке, помещались белый домик и одинокая фигурка перед ним. Гость? Хозяин? Шкатулку было приятно держать в ладонях: массивная и легкая одновременно, вовсе кустарная, но мастерски сделанная.
– Спасибо, что прочел тогда мою записку.
Ольга вытащила шпильки, державшие ее волосы высоко. Темные, как эти киты, локоны рассы́пались – и утреннее напряжение истаяло. Казалось, эта женщина должна быть здесь, в его спальне. И на узкой кровати от нее уже не отстранишься.
Ольга уезжала вместе с труппой 23 апреля. Стояли на причале вдвоем, остальные уже поднялись на палубу. Между настырными гудками парохода она спросила:
– Хочешь, я оставлю для тебя театр?
Вечером, в ресторане летнего сада, Чехов ответил. Не ей, Бунину:
– Я скорее на журавле женюсь, чем на актрисе этой. А что, верная птица. Его же мне подбросили калечного, знаете? Мол, доктор, он вылечит. Ну, я подштопал крыло слегка, а улетать со двора не научил – сам не умею.
Когда в апреле, год спустя, Ольга прибыла к Чеховым на Пасху, вся такая нежная, долгожданная, московская, мамаша была ею очарована – и нарочно уходила к заутрене, понимая, что влюбленным стоит побыть вдвоем. Она, увядающая, едва достающая сыну до груди, заглядывала ему в глаза, пытая насчет даты свадьбы. Волосы ее стали ровно того же цвета, что и серый чепец. Траур по мужу она снимала постепенно.
Мапа сторонилась Ольги, была с ней подчеркнуто любезна. Однажды сказала мамаше: «Думаю, если бы и у меня был муж, это было бы лучше». Мамаша промолчала, да это и не был вопрос.
По скрипу лестницы по утрам Чехов понимал: это ушла мамаша, а это вот крадется Ольга. Ему нравилось представлять, как напрягаются ее мускулистые ноги, пересчитывая ступени, как не касается она поручней, легко держит равновесие. Его чувства к Ольге в моменты ожидания были самые плотские, а вот когда она, наспех раздевшись, забиралась к нему в постель, они утекали в иное пространство, где нельзя было ничего предсказать и внезапно появлялось что-то не упомянутое в их закрепившейся за год переписке. Например, он помнил, что, впервые оказавшись в его комнате, она оценила обстановку лишь из кровати, сладко потягиваясь: «Твоя спальня больше на девическую похожа».
В письмах Ольга осторожничала – точно пирог пекла: щепотку сплетен о театре, пригоршню фраз о своей тоске по нему, Антонке, какая-то лишь ей присущая ерунда вроде «полночи мыла голову» или «порвался башмак». Письма были отредактированы для печати, в них было всё – и не хватало главного. Порой она переходила на французский. Выпендривалась.