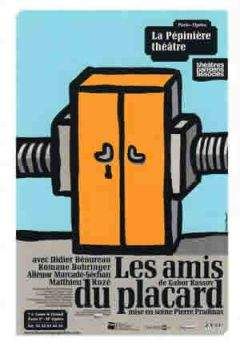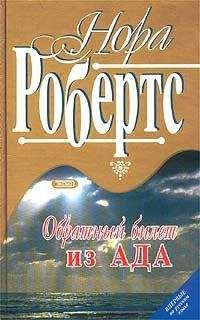Обратный билет - Санто Габор Т.
Служба продолжалась добрых два часа. З. на какой-то миг удивился, не услышав «Овину малкену» [14], которая должна была завершать ритуал, но быстро спохватился: в субботу молитва эта не произносится. К концу службы у него пересохло горло, хотя многие из молитв, которые остальными пелись громко, он лишь бормотал про себя, а с покаянными пассажами забегал вперед, быстро перечисляя грехи.
Его мучила жажда, а до конца поста было еще далеко! Ему вспомнилось, что говорил отец, когда он впервые попробовал продержаться все двадцать пять часов, предписанные Законом. Чем старше будешь, тем легче пойдет дело, уверенно сказал отец; но годы шли, а он, хорошо перенося голод, с жаждой по-прежнему справлялся с трудом.
Складывая талес, он размышлял, как ему удастся перенести этот пост… И вздрогнул, услышав обращенные к нему слова. Рядом стоял раввин. З. медленно, словно стараясь выиграть время, встал со скамьи. Вос махт а ид? [15] — с шутливо-приятельской интонацией спросил раввин, а когда З. ничего не ответил, перешел на ломаный венгерский, поинтересовавшись, не знакомы ли они случайно друг с другом? З. растерянно поднял взгляд на раввина, разглядывая его редковатую седую бороду, лицо с бледной, как воск, кожей. Тот пристально смотрел на него. З. отрицательно покачал головой. Он надеялся, что раввин не сообразит, откуда они знакомы; сам-то он уже по наигранно-фамильярной интонации фразы, произнесенной на идише, с полной ясностью вспомнил это. В груди у него разлилось тепло; однако он предпочел не показывать ту нежданную радость, что охватила его, когда он узнал давнего знакомого, которого не числил в живых: тот бесследно исчез в дни немецкой оккупации Венгрии.
З. и сейчас, почти тридцать лет спустя, помнил этот голос. В Школе раввинов студенты немало потешались над появившимся среди года новичком, который, хотя и состриг пейсы, хотя и быстро выучил венгерский и, пусть с жутким акцентом, немецкий, все равно остался галицийцем: слишком явно в его поведении проглядывал штетл [16], тот тип, к которому городские евреи, а уж будущие раввины тем более, относились с едва скрываемым презрением.
З. попытался сдержать свои чувства. Чтобы не дать тому возможности все же вспомнить его, он сухо извинился и решительно направился было к выходу; но раввин остановил его, положив руку ему на локоть. Скажите хотя бы ваше имя, вежливо, но настойчиво попросил он; однако З. воспринял это как навязчивую бестактность. Мы незнакомы, повторил он раздраженно, зная, что это обидит раввина, и, повернувшись, направился к двери. Но, сделав несколько шагов, остановился и обернулся. Яков, сказал он, глядя на раввина, который растерянно смотрел ему вслед. Мое еврейское имя было — Яков. Было? — удивленно переспросил раввина; но З. на это уже ничего не ответил.
В этот момент раввина окликнул старик хазан, который стоял у Священного ковчега и возился с замком. Но раввин все еще не сдавался. Вы утром придете? — крикнул он вслед З., тот кивнул. Скажите хотя бы, вы — коэн? — продолжал раввин. Мне это надо знать, потому что, сами понимаете, алия [17], духенен [18]… объяснял он, разводя руками, словно оправдываясь. З. лишь помотал головой, хотя не в силах был сдержать нервной улыбки. Что за настырный тип, досадливо думал он. Ну, нет так нет, пожал плечами раввин, грустно смирившись с тем, что ему так и не удалось узнать, откуда ему знаком этот странный человек. Гмар хасиме тойве, произнес он и шагнул к З., все еще вглядываясь в его лицо и напрягая память; профессору пришлось шагнуть навстречу и пожать протянутую руку.
З. не хотелось идти вместе с другими: ведь кто-нибудь снова привяжется к нему с расспросами. Поэтому он двинулся куда-то в сторону, противоположную центру. Спустя какое-то время он заблудился в темных, без фонарей, переулках — и кое-как вернулся наконец к синагоге. Дорогу отсюда он уже знал.
Минуло десять часов, когда он добрался до мотеля. Оказавшись в номере, он сел в ветхое кресло, включил настольную лампу — зажигать свечи было еще рано — и стал листать молитвенник. Во рту совсем пересохло, правая рука затекла, но хуже всего была усталость. Он сполз пониже, чтобы устроиться поудобнее; шляпа свалилась с его головы, он снял очки, сбросил туфли, положил ноги на столик — и мгновенно заснул…
Утром в синагоге его вызвали читать Тору. Он был среди собравшихся единственный коэн, по прямой линии потомок священников иерусалимского Святилища, и в его обязанности входило, накрыв голову талесом и воздев руки, благословить верующих. Но он не двинулся с места.
«Яков бен Ицхок», — четко прозвучало его имя на иврите. Он вздрогнул, но не ответил. В смущении, чтобы не встретиться с кем-нибудь взглядом, он не отрывал глаз от молитвенника. Людей в синагоге было немного, и ни один из них не оглянулся, не посмотрел на него. З. не видел раввина, стоящего где-то впереди; лишь голос, все более громкий, долетал до него. З. даже не был уверен, действительно ли его голос он слышит. Во всяком случае, он молчал, не отвечая. Его снова позвали по имени, еще ближе, еще настойчивее. Он и на сей раз не видел, откуда доносится голос… Он уже вообще не видел лиц… У него закружилась голова. Синагога звенела от громогласно произнесенного имени, он же лишь тряс головой… Они не могут знать мое имя, стонал он про себя, я им ничего не сказал, этого быть не может, это все — дурной сон…
Он решил уйти. И поскольку никто на него не смотрел, даже когда его снова позвали по имени, он подумал, что ему удастся выйти незаметно. Жажда мучила его все сильнее, а вместе с тем нестерпимо захотелось помочиться, и он решил пойти в туалет — и больше не возвращаться на богослужение. Туалет находился в вестибюле. З. поежился от холода, но с облегчением закрыл за собой дверь. Прежде чем подойти к писсуару, он нагнулся над раковиной, открыл кран — и в тот же момент выпрямился, словно в нем сработала невидимая пружина. В ужасе смотрел он в зеркало — и не видел собственного лица. Зеркало было пустым. Из груди З. вырвался дикий крик…
Задыхаясь, хватая ртом воздух, очнулся он в гостиничном кресле. Сердце готово было разнести грудную клетку. Воротничок рубашки промок от холодного пота. Это просто дурной сон, внушал он себе, дрожа всем телом. Он надеялся, что соседи не слышали его крика. Нашарив упавшие на пол очки, он пошел в ванную комнату и посмотрел на себя. Худощавое лицо со строгими чертами, большой нос с горбинкой, седые волосы, зачесанные назад, округлившиеся глаза за стеклами очков в толстой черной оправе, подергивающиеся щеки… Он вздохнул, открыл кран, нагнулся и большими глотками стал пить холодную воду.
Четверть часа он нервно ходил по комнате, не находя себе места. Дрожь все еще сотрясала его, когда он надел пижаму и опустился на край кровати. Его мучила тошнота. Постельное белье было прохладным, и ему показалось, что у него опять начинается жар.
Ему хотелось расслабиться, успокоиться — и решить наконец, пойдет ли он завтра в синагогу, не испугается ли. Может, уехать домой? Тщетно пытался он быть рассудительным: он чувствовал, что не может еще раз позволить подвергнуть себя этим невыносимым расспросам. Стиснув зубы, он подумал, что до воскресенья надо как-то продержаться, домой ему ехать пока нельзя. Он ума не мог приложить, что скажет дома, если вернется раньше времени. Лгать не хотелось, а правду, он был уверен, жена все равно не поймет.
Он повертелся, потом лег на спину, глядя в потолок. Засыпал он всегда хорошо, но сейчас ему никак не удавалось уснуть…
Возвращение домой
Дым из трубы паровоза выползает все более устало; клубы пара, сипя, вырываются из-под железного брюха, заволакивая тормозящий состав густым облаком. Поезд, в последний раз дернувшись, замирает. В боковом окне паровоза показывается машинист в грязной майке, с потной, испачканной копотью физиономией; высунувшись, он смотрит назад, на вагоны, словно торопя пассажиров: вылезайте, мол, приехали. Впрочем, в составе всего два вагона: один — пассажирский, второй — товарный.