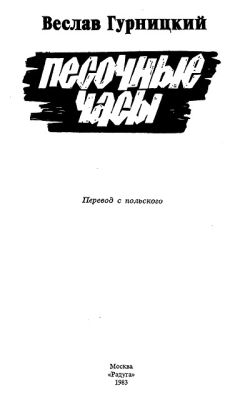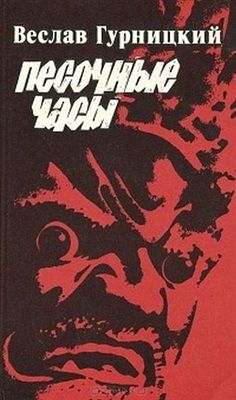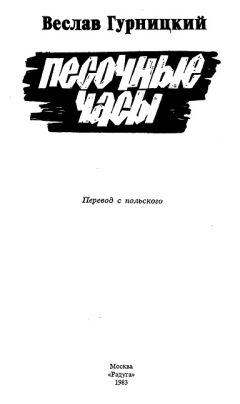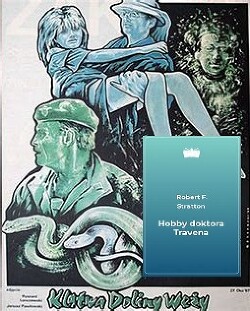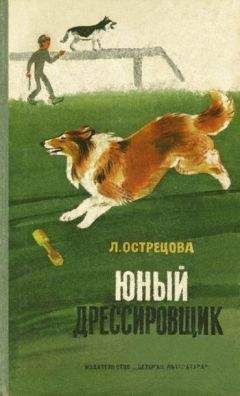Трактат о лущении фасоли - Мысливский Веслав
И однажды антиквар, который всегда встречал меня с улыбкой, хотя мы до сих пор ни словом не обменялись, подошел и спросил:
— Простите, вы иногда заходите — я вас запомнил, — но ни разу ничем не заинтересовались. Может, что-то конкретное ищете? Скажите мне, я буду иметь в виду.
И я, хоть и не собирался ничего покупать, неожиданно для самого себя ответил:
— Я ищу хороший старый подсвечник.
— О, подсвечников у меня много. Вот взгляните. — Он указал на стоявшие вдоль стен шкафы. — Латунные, бронзовые, фарфоровые, майоликовые, лакированные, серебряные. На любой вкус. — Он начал открывать один шкаф за другим — напрасно, потому что дверцы были стеклянные, я все и так видел. Достал какой-то старый подсвечник и, показывая мне, стал уговаривать: — Может, этот? — Потом еще один: — А может, этот вам по душе?
— Нет-нет, — говорил я при виде каждого, который он вынимал из шкафа. — Я их все уже видел. Я ведь у вас не в первый раз.
— Да, действительно, — согласился он. — А пару не хотите?
— Хочу, — ответил я. — Я как раз пару и ищу.
— О, тогда у меня есть кое-что для вас. Я спросил, потому что их нельзя разделять. По одному я продать не могу.
И из закрытого массивного шкафа, который был заперт на ключ, лежавший у антиквара в жилетном кармане, он достал эту пару. Поставил передо мной.
— Взгляните. Это то, что вы ищете? Я сразу догадался. Барокко. Венеция. Искусная работа, согласитесь. Но я должен предупредить вас...
— Догадываюсь, — перебил я. — Цена не имеет значения. Заверните, пожалуйста.
Вероятно, он не ожидал, что я куплю, потому что, упаковывая подсвечники, продолжал словно бы уговаривать:
— Чудо, что они сохранились до наших дней. Да еще парой. Можно только догадываться, что они пережили. О, судьба вещей не менее интересна, чем человеческая. И не менее трагична. Если бы, например, можно было реконструировать судьбу этих подсвечников... Не историю, а судьбу. Тогда мы могли бы многое узнать о людях, которые ими владели. Причем детали на первый взгляд малозначительные, но кто знает, не самые ли важные, о которых ничего не говорится в документах. Потому что иногда вещь — единственное, на чье понимание человек может рассчитывать. Иногда вещи доверяешь то, чего не доверишь больше никому. Порой только вещи способны по-настоящему жить с нами бок о бок. Я вам желаю, чтобы эти подсвечники... И заходите еще.
Может, принести? Вы бы поглядели... Я бы зажег свечи. Вы говорите, для лущения фасоли нам хватит того света, который есть. Вы меня неправильно поняли. Дело не в том, чтобы нам было лучше видно. Иной раз мне не хочется читать, не хочется слушать музыку. Особенно в такие длинные вечера, как сейчас, осенью или зимой, а я тут один с собаками: бывает, принесу свечки в кухню и смотрю, как они горят. И когда я так смотрю, честно говоря, перестаю чувствовать, что это я смотрю. Будто кто-то вместо меня. Не знаю, кто. Впрочем, не важно. Собаки лежат, вот, как сейчас, в темноте у стены, спят или делают вид, что спят, а внутри меня словно все течет, и меня охватывает все больший покой. Я становлюсь почти равнодушным, весь мир мне безразличен — что он таков, а не наоборот. Такое ощущение даже, будто я нахожусь в неизвестном измерении. Вот видите, а казалось бы, обычные свечи. Горят и молчат. Но, может, в этом их молчании заключено нечто большее, чем молчание, как вы думаете?
6
О да, это был настоящий бунт. Разумеется, мы и прежде бунтовали. Как можно быть молодым и не бунтовать? Даже в такой школе, как наша. Причин для бунтов было множество. Самых разных. Из-за еды, потому что кормили нас плохо. Или против наказаний. Например, у одного оторвана пуговица — так вся бригада до обеда должна стоять по стойке смирно. Однажды нас заставили без рукавиц чистить снег, тоже в наказание. В лютый мороз.
Эти бунты не были серьезными. Однажды возвращаемся вечером с работы, а света нет. И не первый раз. Мы решили, что завтра не пойдем на уроки, на занятия в мастерские, вообще никуда не пойдем. Собрались в клубе и сидели там. Обед нам не дали, ужин тоже, а утром, когда мы не вышли на плац для построения, — еще и завтрак. Думали голодом нас взять. Но с голодом мы все были запанибрата. Можно сказать, ничему мы не были так хорошо обучены, как голоду. Многие войну пережили благодаря тому, что голод связывал с жизнью. Голод был доказательством того, что ты еще жив. Голод будил, голод убаюкивал. Голод обнимал, утешал, ласкал. Голод иной раз оказывался единственным прибежищем, потому что все мы, как я уже говорил, были не пойми откуда.
Продолжалось это три дня. Приходили учителя, уговаривали нас, убеждали, угрожали, что это плохо кончится. Сам комендант явился. На груди медали, пояс с портупеей — так он только по праздникам одевался. Начал, можно сказать, спокойно, по-отечески: мол, мы должны понимать. Он нас не осуждает. Знает, что такое, когда света нет. Им, учителям то есть, тоже отключают. Даже ему, коменданту. Но мы же понимаем, что страна до сих пор зализывает раны после войны. Уж кто-кто, а мы должны это понимать. Пока производится мало электроэнергии, а потребности в ней огромны. Фабрики нужно запустить, сталелитейные заводы, шахты, больницы, школы. Наша школа тому пример. Комендант долго перечислял. А сколько электроэнергии требуется городам, чтобы осветить не только дома, но и улицы! Скоро электроэнергия потребуется и сельской местности, поскольку началась электрификация деревни, призванная решительно покончить с вековым неравенством между ней и городом. Ведь и нас учат этой профессии, многие выйдут из школы электриками. Разве мы не преисполняемся гордости при мысли о доверенном нам задании? Будущие электрики, встаньте! Никто не встал. Это, похоже, несколько остудило пыл коменданта. Однако он откашлялся и продолжил. Захватывающее задание. В самый раз для наших юных сердец, нашего юношеского энтузиазма. Комендант так разошелся, что у него даже медали на груди подпрыгивали. Оратором он был хорошим, ничего не скажешь. Мы, мол, должны понимать. Страна пока не в силах обеспечить каждого по его потребностям. Но постепенно, трудом, энтузиазмом, терпением мы всего добьемся. И еще образованием, потому что образование — залог нашей силы. От нас, молодых, все зависит, а главное — зависит, кто победит в этой мирной войне, которая сейчас идет. Но он, комендант школы, обещает нам победу.
Мы совершенно запутались. А уж то, что идет какая-то новая, пускай даже мирная, война, вообще не поддавалось нашему воображению. Никто о ней слыхом не слыхал. Потом комендант снова вернулся к тому, что мы, мол, должны понимать. И некрасиво платить школе черной неблагодарностью. Школа взяла нас под свое крыло, окружила заботой, заменила нам дом, семью, создала условия для нашего взросления...
Тут его прервали — кто-то засвистел, и мы все разом, будто сговорившись, принялись кричать:
— Мы не хотим взрослеть! Не хотим! Не хотим! Мы хотим, чтобы нам не отключали свет!
Комендант замер, будто его током ударило. Но ненадолго. Перекрикивая нас, он за орал:
— Зачинщики! Зачинщики! Назовите зачинщиков! Мы не станем вас наказывать! Но я хочу знать имена зачинщиков!
В ответ раздались еще более громкие свистки, топанье, крики. Комендант в долгу не остался. Весь затрясся, замотал головой, замахал руками. Лицо сделалось красным, как свекла. Казалось, еще минута — и из его глаз, носа, рта хлынет кровь.
— Всем встать! Смирно! Объявляю в наказание построение на плацу! Мы вам покажем! Мы умеем обращаться с такими, как вы! Сброд! Злодеи! Нам про каждого известно, что у кого на совести. На каждого бумага имеется! Воровство! Поджигательство! Изнасилования! Убийства! Мы все знаем. И все вытащим на свет! Отправим вас куда следует! Бунт недопустим! Бунтовщикам в школе не место, они должны находиться в тюрьме! В противном случае мы никогда не очистим страну от гнилой крови! Молодость — не оправдание! Врага нужно уничтожать, невзирая на возраст! Уничтожать безжалостно! И чем раньше, тем лучше!