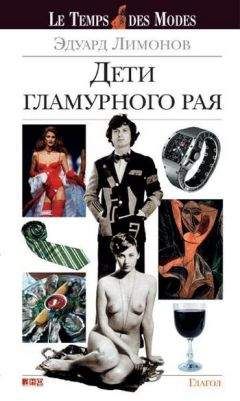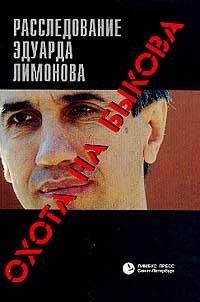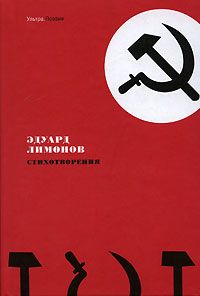Эдуард Лимонов - Апология чукчей
Литераторов приехало множество. Богатое американское «Whiteland Foundation» не скупилось. По прошествии уже четверти века я плохо помню коллег-писателей, все они были диссиденты из СССР и восточноевропейских стран. Помню разве что, что был Лев Копелев с женой, тот, который написал несколько книг об «ужасах» советской оккупации Германии. Дни литературы открыла рослая красотка — председатель «Whiteland Foundation» Анн Гетти. Очень рослая красотка была женой одного из сыновей нефтяного магната Пола Гетти. Красотка увлекалась литературой, она прикупила себе знаменитое издательство «Grove Press», а я был автором этого издательства.
Как водилось в те годы, писатели-диссиденты вступили в перепалку со мной. С их точки зрения, я был просоветский, а с моей точки зрения — они были бесталанные третьесортные литераторы. Копелев с женой возмутились моей шинелью, назвали мое прибытие в Австрию в этой шинели вызывающим, провокационным. Я сообщил им, что, если они не знают, эта шинель освободила Европу от гитлеризма.
В результате этой перепалки в перерыве меня окружили красивые дамы, одетые и разговаривающие таким образом, что я определил их как аристократок. Но они оказались, эти дамы, общим числом где-то шесть или семь дам, высшей аристократией! Достаточно сказать, что одна из них носила фамилию Гогенлое, а еще одна — Гогенцоллерн. А, каково! Я им понравился, видимо, моей наглостью, повадками «русски мужик» и оккупанта. «Диссиденты не понимают психологии недавно еще оккупированных народов и не понимают психологии оккупированных дам», — подумал я снисходительно.
К вечеру, когда стемнело, к Sacher-отелю подъехал на ржавом «фольксвагене» Андрей. В конце шестидесятых годов в Москве мы с ним были близкими друзьями, я жил у него на Малахитовой улице, он работал фельдшером и занимался живописью. Мать его была доктор, но особого рода, она работала в российских посольствах за границей. Мать русская, а отец Андрея, оказалось, еврей, поэтому он воспользовался волной еврейской эмиграции и уехал в Австрию в самом конце семидесятых с женой и ребенком и вот жил в Вене.
— Я покажу тебе настоящую забегаловку для простых немецких алкашей, — сказал Андрей.
— Вот-вот, именно, где разливают дешевый шнапс, — одобрил я. — И где из магнитолы хрипит «Лили Марлен». А то меня задолбали все эти Гогенцоллерны и Гогенлое.
— О, ты познакомился с Гогенцоллернами?
— Да.
— Ну и..?
— Обычные сдержанные напудренные селедки. Я бы лучше познакомился с большущей рыжей потной австриячкой. Там, куда мы едем, есть такие?
— Бывают, — сказал Андрей. Он уже развелся и жил один. — Я пригласил сегодня двух. Сказали, подойдут.
Мимо мелькали уже совсем незначительные здания. Вена — небольшая столица, меньше двух миллионов жителей. Андрей запарковался у какой-то старой двери. Мы вышли и вошли внутрь.
В помещении пахло мокро алкоголем. Оно было тесное, полутемное, и за столиками сидели действительно просто одетые в теплые пальто и куртки австрийцы. У некоторых были красноватые лица.
Мы прошли к бару. Бармен, лысый, в красной жилетке поверх белой рубахи, смотрел на мою шинель не отрываясь, с тревогой.
— Шнапсу, самого простого. Переведи.
Андрей прокурлыкал бармену на вполне сносном немецком, ну австрийском.
Бармен стоял за своей стойкой и молчал. Потом открыл рот и произнес короткую фразу. При этом он указывал на меня.
— Шинель? — спросил я.
— Ну да, — вздохнул Андрей. Он требует, чтобы ты снял шинель, иначе он нас не обслужит. Снимешь?
— Не буду, — сказал я. — Пошли в другой бар.
Не тут-то было. Вокруг нас уже стояли посетители, стекшиеся к бару от своих столиков. Некоторые сжимали в руках стаканы и пивные кружки. Они галдели, а один брезгливо схватил меня за рукав шинели.
— Что говорят? — спросил я.
Андрей грустно сообщил, что они называют нас проклятыми оккупантами и требуют, чтобы мы убирались.
— Скажи, что мы уберемся, — вздохнул я.
Он сказал, но они не расступились. Я подумал, что, падая, нужно будет ухватиться за голову руками. Потому что руки починить будет докторам легче, чем голову.
Тут из-за спин разгневанных австрийцев к нам пробрался маленький старичок. Один рукав его пальто был засунут в карман.
Старичок что-то сказал австрийцам, и они затихли. Потом он спросил о чем-то Андрея. Андрей ответил. Потом старичок обратился к австрийцам с короткой речью. После чего австрийцы, всё еще галдя, пошли к своим столикам. Затем старичок что-то сказал бармену. Тот кивнул и поставил на стойку три стакана.
— Что он им сказал?
— Он сказал, что потерял руку на Восточном фронте и что от его рук на Восточном фронте погибли как минимум трое русских солдат, так что мы квиты, хватит всего этого, можно выпить.
Бармен налил нам мутного шнапса, и мы выпили все трое: Андрей, я и однорукий старичок.
Однако мы не стали испытывать судьбу и не выпили по второй. Мы ушли. Пожав на прощание единственную левую руку старичка. На улице я снял шинель.
Белое на белом
В ноябре Центральная Россия обыкновенно покрывается снегом. Россия становится от снега чище, но выглядит безжалостно. Белый цвет у меня ассоциируется с кроватью больного, с бинтами раненого, с саваном мертвеца. Вообще со смертью.
Белой позволительно быть только белой рубашке под новогодним смокингом. Где-нибудь в театре оперы и балета. Ну еще очень хороши были снежные вершины гор над городом Алма-Аты в 1997 году.
Счастливы нации, не видавшие снега.
Из иллюминатора воздушного лайнера в залитом Абсолютным Светом счастливом пространстве видно внизу белую подкладку облаков. Не раз я испытывал в этой высокой Сияющей Зоне абсолютное счастье. Есть нехитрая уловка — пятьдесят граммов виски плюс до упора поднять штору над иллюминатором и блуждать взором, как ангел. В такие минуты понятно, что люди некогда летали.
Еще бел лучший в мире мрамор. «Пьета» Микеланджело в соборе Святого Петра, побитая молотком фанатиком, была в 1974 году, в декабре, ближе к новому, 1975 году, ослепительно-белой. Я ходил, молодой длинноволосый эмигрант, каждое утро через холм Сан-Николо, по традиционному маршруту мимо статуй и бюстов гарибальдийцев и храма рабочему, построенного Муссолини, один, в воздухе, отдающем лимоном, редисом и укропом. Мимо вилл и дворцов. Мимо пальм и мясистых кустарников. Заканчивался мой маршрут в преддверьи храма, справа от входа, перед «Пьетой». Мерцала перед скульптурной группой нитка инфракрасного луча, охраняющая ее покой. Уютно так. Постояв у «Пьеты», удивляясь всякий раз ее сахарной белизне и ее пропорциям: длине тела Христа и Божьей Матери, я выскальзывал из преддверья храма. Я приходил только ради «Пьеты».