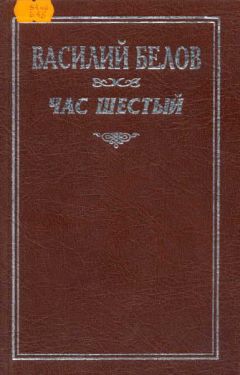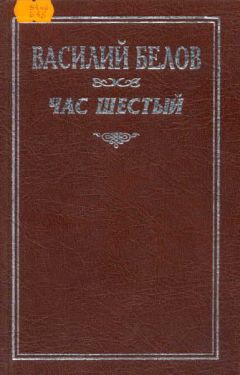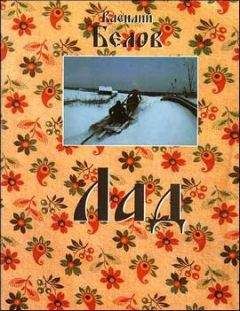Василий Белов - Кануны
Иван Никитич почуял, как в сердце опять знобящей тревогой шевельнулось глухое предчувствие горя. Это уже не первый, а второй раз. Помнится, после сговора решили морозить в избе тараканов. Иван Никитич переправил семью к Евграфу Миронову, и Верушка вместе с Палашкой в последний раз гляделись в зеркало, прибирали в избе. Девки насыпали в бадью толокна, начерпали из кадки блюдо рыжиков, прихватили прялки с куделями — и за порог, с отцовских глаз долой.
«Хы! Стой, редкозубые! Стой, вам говорят», — окликнул Иван Никитич. Девки глуповато прыснули в рукава. «Я вам пофорскаю, вот! Хоть бы перекрестились. Навыкли трясти титьками, рады из дому вон». — «Да ведь мы, тятя, придем еще», — засмеялась высокая, в мать статная Вера. «Ладно, ступайте уж». Иван Никитич еле спрятал в бороде добрую отцовскую улыбку, не годится баловать дочку, хоть и любимую.
Помнится, девки убежали, а он еще долго ходил по избе. Ему было жутко распахивать двери, пускать в избу густой январский мороз. Открыл подполье, поглядел, надежно ли укрыты картошка и брюква, уже обметанная зелеными росточками. Подошел к печи. Большая, беленная раствором золы, сбитая много годов тому назад печь эта не остывала еще ни разу. Она кормила и поила дочь Верушку и ее брата, надежно лечила немочи деда Никиты. Безропотно сушила обутку, зерно, лучину… Тогда Рогов с такой же, как сегодня, тревогой открыл вьюшки и выставил заслонку. Тараканов было густо, особенно около кожуха и полатей, в щелях тесаного потолка и у трубы. Они водили усами, ничего не зная о своей предстоящей беде. «Что, рыжие? — вслух весело сказал Иван Никитич. — Вот вы у меня кряду запляшете», — распахнул широкую дверь в сени. По полу белым густым валом покатился холод. Жилой дух, сдобренный запахом печеного хлеба, запахом кожаной упряжки, сухой лучины и пареной брюквы, быстро исчезал, уступая место чему-то бесцветному и морозно-безжизненному. Тогда у Ивана Никитича стало неловко и пусто на душе — это он хорошо запомнил. Но, увидев, как притихли скопища ошарашенных тараканов, он снова почему-то развеселился. «Вот эдак вас, рыжих, эдак. Всех до единого, всех под корень!»
Вышел из избы, закрыл на замок ворота в сени. Скрипя серыми валенками, пошел к Евграфу. Но не утерпел, оглянулся. Над трубой чуть заметно дрожало покидающее избу тепло.
…Девки, подружки Верушки, опять скопились внизу, они бегали от окна к окну, переговариваясь шепотком. Охали, радостно-перепуганные и праздничные. Палашка Миронова вдруг в радостном ужасе всплеснула руками.
— Ой, девоньки, едут ведь!
Все девки и Аксинья со сватьей Марьей метнулись к окошкам. Туда же, стараясь быть степеннее, подошел и Никита.
— Ну, ну, полубелые, дайте и мне!
— На трех лошадях, мамоньки!
— Что делать-то, Оксиньюшка? Овес-то у нас да и симячко не насыпано!
— Беги, сватья, беги скорее, ради Христа!
Сватья Марья, подхватив подол черного своего сарафана, по-коровьи, неловко побежала в сенник за овсом и льняным семенем. Девки, накрывая на стол, еще быстрее заметались по избе. Аксинья торопливо снимала с божницы икону.
Иван Никитич дрожащими руками одернул жилетку, надетую поверх красной, белым крестом вышитой рубахи, виновато взглянул в зеркало. И, сдерживая волнение, повел седеющей бородой.
— Ты, Оксинья, значит, это…
Аксинья на секунду ткнулась головой в его плечо, заплакала, но также быстро осушила глаза. Она сунула ему в руку иконку и исчезла. Он, не зная что делать, положил образок, взял с полицы широкую кованую ендову, вытащил из насадки обрубок веретена и нацедил сусла. Сусло было темное, с желтоватой душистой пеной. Иван Никитич приготовил два блюда и заперетаптывался.
— Самовар-то сейчас или погодить?
— Погодить! Ой, погодить… — Аксинья и сама растерялась. Поезд о трех корешковых и одних деревянных санках ехал уже через мост, кони шли усталой рысью. У околицы сидевший в передних санках дружко махнул кнутом, негромко и часто запели по улице медные бубенцы. Вороная кобыла, колесом гривастая шея, вынесла санки с женихом на середину Шибанихи. Сажени на три вослед, вся в лентах, шибко шла чалая, запряженная в деревянные, расписанные вазонами сани. В санях, в куче гостей играл на гармони привозной из жениховой родни гармонист. С бубенцами, с лентами в конских гривах вымахали в деревню еще две упряжки, правда, вожжи у них были уже не ременные, а веревочные. И это тоже не ускользнуло от востроглазых шибановских баб.
— Ой, ой, вожжи-то, бабоньки!
— Да и сани, кажись, нешиненые, у этих-то!
— А дружко-то кто?
— Вроде бы Микуленок.
— Это с каких бы рыжиков?
— Он, вот те Христос, он!
Дружком действительно был Микуленок. Он на полном ходу вывернул кобылу к дому невесты, народ с шумом шарахнулся в снег, но девки тут же окружили упряжку, запели:
Вьюн на воде извивается,
Павел у ворот убивается,
Просит свое, просит суженое,
Свое ряженое, запорученное,
Запорученное, запросватанное.
Микуленок в дубленом полушубке, с белоснежным платом через плечо спрыгнул на снег, хлопнул о колено шапкой с бархатным, табачного цвета верхом. Раздвигая девичий заслон, махнул на крыльцо и в избу, чтобы известить о приезде жениха-князя. Но Иван Никитич уже выходил на крыльцо с блюдом сусла в руках. Он отыскал глазами Данила, сошел с крылечка к нему, подал блюдо и поклонился в четверть земного поклона.
— Данилу Семеновичу… Покорно прошу в дом заходить.
Данило сделал три глотка, сказал «спасибо», передал блюдо другой родне и ступил на крыльцо. Его чуть кривые, в серых валенках ноги, избавляясь от несуществующего снега, проворно поколотили друг о дружку. Прошли в дом тысяцкий Евграф Миронов, гармонист Акимко Дымов и другие приезжие. Марья с неспешным поклоном подала жениху белый, с красным тканьем плат-полотенце. Иван Никитич тоже поклонился Пашке, и оба только теперь направились в избу. Девки, не останавливая песни, сомкнулись за ними, хлынули следом и сгрудились в сенях. По обычаю, поезжане встали у дверей под полатями. Все смолкли. Короткая, печально-отрадная тишина установилась в избе, многие женщины завытирали глаза. Вдруг Палашка Миронова, изменив голос, грустно, но смело нарушила тишину началом причета, и девки одна за другой начали пристраиваться к ней.
Не сама ясна светлица
На пяту растворилася,
Не верба в избу клонится,
Не шелковый клуб катится,
Клонится-поклоняется
Дворянин да отецкий сын
Павел да свет Данилович.
Дружко нетерпеливо кивал Палашке, чтобы причитала скорее. Марья Миронова из кути знаками показывала жениху, что пора приносить челобитье. Но девки, вместе с невестой, начав причитать как бы шутя, распричитались теперь взаправду, у многих катились по щекам слезы.