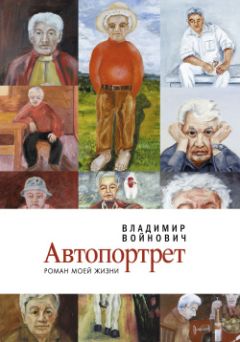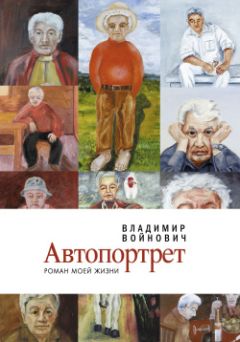Владимир Войнович - Монументальная пропаганда
Нечаев взял трубку и, понимая, что в воскресенье Грызлов без дела звонить не будет, сказал официально:
— Нечаев у телефона.
Ожидая, что в ответ с ним поздороваются, спросят, как дела. Но Грызлов, ничего не спросив, сказал сразу:
— Оказывается, у тебя в районе есть своя оппозиция.
Разумеется, имея в виду Аглаю Ревкину. А когда Нечаев стал говорить о заслугах Аглаи и о том, что с ней надо поработать, Грызлов резко заметил:
— У нас, милый друг, с оппозицией не работают, у нас ее уничтожают.
И не дожидаясь ответной реакции, положил трубку.
Вот тут-то все и началось. Нечаев послал жену за Поросяниновым, который был вскоре найден в парикмахерской. Поросянинов, думая, что его пригласили к обеду, явился без промедления с бутылкой водки «Посольская» и запасом свежих анекдотов, чтоб посмешить начальство.
У порога, тщательно вытирая ботинки, он сказал:
— Вчера я слышал анекдот про козу и сороку. Летит, значит, сорока…
— Ноги можешь не вытирать и сразу топай обратно, — перебил сурово Нечаев. — Завтра будем исключать Ревкину. Поручаю тебе собрать бюро, и чтобы был полный кворум.
— А что случилось? — удивился Поросянинов.
— Полный кворум, — повторил Нечаев.
— Да какой кворум? Как я до завтра его соберу? — спросил Петр Климович.
— Звони по телефону, работай ногами. В общем, делай, что хочешь, но кворум чтоб был, — сказал Нечаев и отвернулся.
Глава 27
Покинув Аглаин двор, Степан Харитонович направился сразу к себе в Дом колхозника, который находился по ту сторону железной дороги. Подпрыгивающей походкой Шалейко шел в сторону вокзала, испытывая ощущение, что за ним кто-то сзади крадется, скрываясь за деревьями, или следит из-за неосвещенных окон.
Шалейко шел быстро, а вечер надвигался еще быстрее, как будто сама темнота кралась за Шалейко на мягких лапах. И постепенно стали зажигаться огни в окнах и на столбах вдоль дороги, вернее, не на всех столбах, а только на одном при подходе к вокзалу. На остальных столбах лампочки отчасти перегорели, отчасти были побиты в прошлом году сильным градом, а отчасти расстреляны местными мальчишками из рогаток. И с тех пор то ли лампочек не было, то ли некому было их вкрутить, но улица ночами жила в полном мраке. Зато сам вокзал, через который лежал путь Степана Харитоновича, со всех сторон светился электрическим раем.
Вокзал в городе Долгове, как и во многих ему подобных, играл особую культурную роль. Не имея лучшего места для вечерних прогулок, местная публика стекалась сюда по субботам и воскресеньям к прибытию дальних поездов.
Этих поездов было четыре, и все четыре московские. Два — один из Москвы, другой в Москву — проходили днем. И два других тех же направлений останавливались здесь вечером с промежутком около получаса. Стояли каждый по четыре минуты. И эти минуты до прибытия первого поезда, после отбытия второго, в промежутке между ними и особенно во время стоянки того и другого воспринимались долговчанами как волнующее событие. И в самом деле, это было красиво и впечатляюще. Гладкий перрон из хорошо укатанной кирпичной крошки очень отличался от городских улиц, темных и кривых, и в лучшем случае крытых булыжником.
Двухэтажное здание вокзала было построено в начале века из серого шершавого камня. В нем было все, что полагается: зал ожидания, билетные кассы, два буфета и ресторан. На фронтоне по обе стороны от круглых часов и светящейся вывески с названием станции располагались портреты коммунистических основоположников — Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.
Между прочим, в том самом 1957 году в Москве должен был состояться Всемирный фестиваль молодежи. К великому этому событию готовился и Долгов. Поэтому долговский вокзал в ожидании проезжающих на фестиваль зарубежных гостей был почищен и приведен в порядок, а у главного входа в вокзал было вывешено на понятном иностранцам языке объявление:
«Tualet nakhoditsya za uglom»
А у клумбы перед вокзалом для той же категории пассажиров на специальной фанерке было написано:
«Zvety ne rvat'! Po trave ne hodit'!»
Иностранцы в Долгове пока что встречались редко, но и без них вечерами на здешнем перроне бывало людно и весело.
Первыми задолго до прихода очередного состава появлялись девушки. Они ходили по две, по три, источая запах крепких духов местного производства. Тут же возникали здешние парни в вельветовых куртках-бобочках и в широких расклешенных брюках. Супружеские пары, нарядившись в самое лучшее, неторопливо двигались вдоль перрона, приветствуя друг друга почтительным наклонением голов и приподнятием шапок, кепок и шляп. У входа в вокзал продавались бублики с маком, газированная вода с сиропом «Крюшон» и сливочное мороженое в вафельных стаканчиках. А иногда даже и надувные шарики для детей. Так все гуляли туда-сюда в терпеливом ожидании приходящего по расписанию краткого праздника. Девушки шуршали крепдешином, молодые люди, волочась за ними, мели платформу своими клешами, пытались завязать разговор:
— Девушка, а девушка, из вас что-то выпало и пар идет.
Девушка либо гордо не отвечала, либо отвечала:
— Дурак! — и тем самым давала повод для дальнейшего общения.
Поезд появлялся издалека, из темноты. Сначала слышался далекий, но сильный крик паровоза, потом из-за дальнего поворота выскакивали и начинали быстро приближаться три светящихся глаза, три фары, свет которых тонкими струйками бежал по рельсам, затем становился больше и ослепительней, и вот на станцию в клубах пара врывался, пыхтя и свистя, двигая блестящими рычагами и кривошипами, «Иосиф Сталин», гордость советского паровозостроения, с пятиконечной звездой на могучей груди. Он втаскивал за собой длинную, пропахшую копотью вереницу вагонов, двери которых одновременно распахивались, свету становилось еще больше, пассажиры в пижамах и тапочках спрыгивали со ступенек, и одни с чайниками торопились за кипятком, другие — за бубликами и мороженым, остальные смешивались с местным народом. На перроне возникало оживление, атмосфера временной многолюдности, даже как бы столичности, слышалась чистая московская речь: «Сматри, какой прелестный гарадок!», «А пачем ваши агурчики?» — и возникало ощущение, что это не жалкий перрон захолустной желдорстанции, а что-нибудь вроде парка имени Горького, или улицы Горького, или даже Бродвея.
Как раз в такой момент попал на перрон Степан Шалейко. Здесь встретил он много разных знакомых, поговорил с ними о сломанном сцеплении, погоде и видах на урожай и, обеспечив себе полное алиби, уже собирался покинуть перрон, как вдруг столкнулся нос к носу с Петром Климовичем Поросяниновым. Тот куда-то бежал с озабоченным видом, но, увидев Шалейко, ткнул его пальцем в живот и сказал: