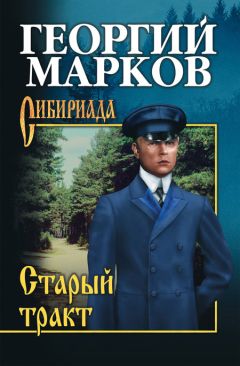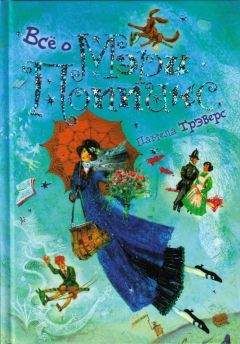Халед Хоссейни - Бегущий за ветром
Я почувствовал, как у отца, сидящего рядом со мной, напряглось все тело.
Карим откашлялся, потряс головой и сказал, что солдат хочет провести полчаса с дамой из грузовика.
Женщина надвинула на лицо платок. Из глаз ее полились слезы. Младенец на руках у мужа заплакал. Смертельно бледный муж попросил Карима перевести «мистеру-сагибу» солдату, чтобы он сжалился над ними, подумал о своей матери или сестре. А может, у «мистера-сагиба» есть жена?
Русский выслушал Карима и что-то прорычал.
— Считайте это платой за проезд, — перевел Карим, старательно отводя глаза в сторону.
— Мы уже раз заплатили, — упорствовал муж. — И недешево.
Русский и Карим переговорили.
— Он сказал, всякая стоимость облагается налогом.
Вот тут-то поднялся со своего места Баба. Пришла моя очередь хватать его за ногу, но Баба резким движением высвободился.
Могучая фигура отца заслоняла луну.
— Я хочу его кое о чем спросить, — сказал Баба Кариму, не сводя при этом глаз с русского. — Стыд у него есть?
Карим что-то пролепетал, русский ответил.
— Он говорит, сейчас война. Какой может быть стыд?
— Скажи ему, что он ошибается. На войне обязательно надо быть порядочным. Куда более порядочным, чем в мирное время.
И приспичило же ему геройствовать! Сердце у меня колотилось. Мог уж и промолчать раз в жизни. Только в душе я знал, что остаться в стороне отец не мог — такой уж он уродился. Поубивают нас всех сейчас, а все его врожденное благородство!
Русский осклабился и шепнул что-то Кариму.
— Ага-сагиб, — промямлил Карим, — эти руси — они не такие, как мы. Они не понимают, что такое честь и достоинство.
— Что он сказал?
— Он сказал, что всадит в тебя пулю с тем же удовольствием, что и… — Карим мотнул головой в сторону молодой женщины.
Русский отбросил недокуренную сигарету и достал из кобуры пистолет.
Вот как суждено умереть моему отцу. Здесь, на моих глазах.
Про себя я повторял заученную в школе молитву.
— Переведи ему, пусть хоть тысячу пуль в меня всадит, но я не позволю ему опозорить женщину.
Перед глазами у меня так и встал тот зимний день. Камаль и Вали крепко держат Хасана. Ягодицы Асефа в ритмичном движении напрягаются и расслабляются. Напрягаются и расслабляются.
Каким героем я себя тогда показал! Может, Баба мне и на самом деле не родной?
Рука с пистолетом стала медленно подниматься.
— Баба, да сядь же, — дернул я отца за рукав. — Он ведь и вправду убьет тебя.
Баба вырвал руку. Прорычал:
— Так я тебя ничему и не научил.
И ухмыляющемуся солдату:
— Скажи ему, пусть постарается убить меня с первого выстрела. Если я не рухну на месте, я его на куски порву, да падет проклятие на голову его отца!
Русский выслушал перевод, но улыбаться не перестал. Дуло пистолета теперь смотрело прямо отцу в грудь. Щелкнул предохранитель.
Я закрыл лицо руками.
Грянул выстрел.
Вот и все. Мне восемнадцать лет, и я сирота. Один на всем белом свете. Баба мертв, предстоит погребение. Как мне его похоронить? И куда податься потом?
Я открыл глаза, и хоровод гадких мыслей у меня в голове оборвался. Баба стоял, как стоял, зато внизу у машины появился еще один русский. Пистолет в его руке был направлен в небо, из дула поднимался дымок. Солдат, который намеревался стрелять в Бабу, прятал свое оружие в кобуру, неловко переминаясь с ноги на ногу.
Мне захотелось смеяться и плакать одновременно.
Второй русский (видимо, офицер, седой и в теле) заговорил с нами на ломаном фарси, извиняясь за поведение своего товарища:
— На войну присылают мальчишек. А тут полно наркотиков. Накачаются, вот на подвиги и тянет. Ну что мне с ним делать?
Седой махнул нам рукой, и мы тронулись с места. До нас донесся смех, а потом изломанные, пьяные слова старинной свадебной песни.
Минут пятнадцать мы ехали в молчании. Внезапно муж молодой женщины встал и припал губами к руке Бабы. Я не очень удивился. И до него многие целовали отцу руку.
А Тоору не повезло — Карим с афганским солдатом правду говорили.
За час до рассвета мы въехали в Джелалабад. Карим быстренько (чтобы не увидел кто) отвел нас в какую-то хижину на перекрестке двух незамощенных улиц, густо заросших акациями. Вокруг белели скромные одноэтажные домики, на дверях запертых лавок болтались замки. Было холодно и почему-то пахло редиской.
В совершенно пустой, скудно освещенной комнате Карим сразу же запер дверь, задернул занавески и только тогда сообщил дурные вести. Его брат Тоор не сможет отвезти нас в Пешавар. У его машины неделю назад сгорел мотор. А запчастей все не везут и не везут.
— Неделю назад? — простонал кто-то. — Зачем же ты нас сюда привез?
Краем глаза я успел заметить движение — кто-то из толпы метнулся прямо к Кариму. И вот уже наш шофер прижат к стене и ноги его болтаются в полуметре от пола. Баба своими ручищами стиснул Кариму глотку.
— Я вам скажу зачем, — прорычал Баба. — Он ведь получил деньги за свою часть маршрута. А на остальное ему плевать.
Карим давится и хрипит. На губах у него выступает пена.
— Оставь его, ага, ты ведь его убьешь, — слышится чей-то сердобольный голос.
— Что я и собираюсь сделать, — сухо отвечает Баба. И ведь он не шутит, только присутствующие об этом не подозревают.
Карим синеет и брыкается.
Только когда молодая женщина, которую Баба спас от русского солдата, попросила его, отец сдался и отпустил мошенника.
Широко открывая рот и хватая воздух, Карим покатился по полу.
В комнате тишина. И двух часов не прошло, как Баба, рискуя получить пулю в грудь, вступился за женщину, с которой даже не был знаком. И вот теперь он задушил бы человека до смерти, если бы не просьба все той же женщины.
Послышался глухой удар в дверь. Постойте, не в дверь. В пол.
— Это еще что? — спросил кто-то.
— Это беженцы, — выдавил Карим между двумя судорожными вдохами. — Они в подвале.
— А они сколько ждут? — поинтересовался Баба с высоты своего роста.
— Две недели.
— Ты же сказал, грузовик сломался семь дней назад.
Карим потер шею.
— Ну может, неделькой раньше.
— Когда прибудут запчасти? — взревел Баба.
Карим вздрогнул и ничего не ответил.
Все-таки хорошо, что потемки скрыли лицо Бабы, такая на нем была жажда убийства.
Стоило Кариму поднять крышку подпола, как в нос ударил затхлый запах плесени, сырости и нечистот. Один за другим мы спустились вниз, лестница под тяжестью Бабы застонала. В холодном подвале я почувствовал на себе взгляды многих людей. В тусклом свете двух керосиновых ламп мелькали тусклые силуэты, слышался сдавленный шепот, звук падающих капель и какой-то скрип.