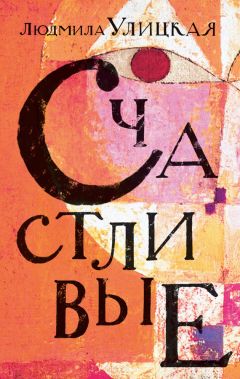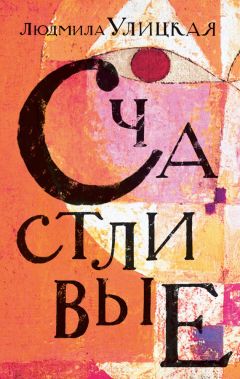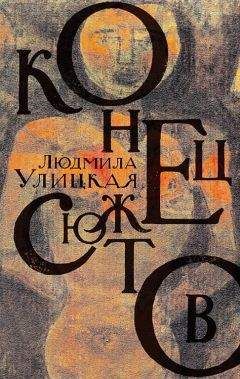Анатолий Иванов - Тени исчезают в полдень
Клашка постояла-постояла и всхлипнула, шатнулась и упала на грудь к Корнееву, стоявшему ближе к ней.
— Борис Дементьич... Захарыч... Не знаю я, как вышло... Все одна да одна, скоро двадцать лет — и все одна, — плача, говорила Клашка. — А чуть что — бабка Пелагея тут как тут: «Христос не забудет страждущих да жаждущих...» И сама Пистимея: «Зайди как-нибудь, не чужая, чай, остудится сердце. Если и умер Феденька — для нас он живой... Христос может воскресить человека из праха. Поверишь в Христа — и воскресит...» Вот и зашла. Из любопытства, может...
— Ну ладно, ладно, Клавдия... Что ты, в самом деле? — неумело и потому несколько грубовато сказал Корнеев, бережно поддерживая женщину.
Захар тоже подошел, тронул ее легонько за плечо:
— Клаша...
— Я никогда... Захар Захарыч... Борис Дементьич, слышите... и ты, Филимон... Я никогда не приду больше сюда... — И она оторвала от груди Корнеева мокрое, блестящее под лунным светом лицо. — Только вы забудьте... И чтоб никогда... словно и не было меня тут, словно не видели...
— Да само собой, об чем разговор! — поспешно промолвил Колесников.
— Ты иди-ка домой, отдохни...
Клашка вытерла ладонью мокрые щеки и пошла. Большаков, Корнеев и Филимон постояли еще немного молча и так же молча пошли по грязи в другую сторону.
— Да-а... — промолвил через некоторое время со вздохом Корнеев. — А я читал недавно — брошюрка такая попалась, — сколько у нас еще церквей и молитвенных домов, сколько еще монастырей! Да две этих... духовных академии.
— Во-во... Сколько эти самые академии каждый год таких вот... утешителей выпускают! — буркнул зло Филимон. — И это кроме всяких там подпольных, не взятых на учет сектантов...
И еще несколько минут шли молча до самого дома Большакова. Прощаясь, Захар сказал:
— А насчет Варьки вот... Пропадет девка, если мы как-то...
— Слушай, Захар. Попроси Иришку Шатрову, пусть подружится с ней. И, может, она...
— Да я попрошу, объясню ей все. Только сдается мне, Боря, есть еще один человек, который... Словом, этот человек, однако, может сделать больше Иринки, больше всех нас, вместе взятых.
— А-а, Егор Кузьмин! — промолвил Колесников.
— Во-во! И ты приметил? Идут по улице как-то, у Егора все на лице написано, а Варька... Озирается пугливо, а тоже вроде ухо опростала из-под платка, чтобы слова не пропустить.
— Да ведь как к ним, чертям, подойдешь... Не прикажешь же — женитесь, дьяволы! Хотя... С Егоркой-то можно потолковать по-мужски. Но ведь Пистимея с Варьки глаз не спускает, держит при себе, как привязанную.
— Тут придумаем что-нибудь. Вот и давай, Филимон. Я — с Иринкой, ты — с Егором. И какое спасибо нам Варька потом скажет! Ну, еще раз прощайте.
Глава 4
В последних числах июля сеногной наконец прекратился. Однажды с полудня клубы тяжелых, как густой дым, туманов оторвались от земли, поползли все выше и выше. К вечеру они перекатывались уже высоко над головами, сбивались там в неуклюжие облака, а ночью вдруг поплыли за тайгу, как тяжелые, неповоротливые льдины в густой ледоход. Перед рассветом ледоход стал пореже, в открывшиеся разводья просыпались первые горсти звезд. А утром как ни в чем не бывало засияло на чистом небе солнце.
Сена во всех бригадах удалось спасти немного. Добрая половина так и сгнила.
— Ну, что будем делать, друзья-товарищи? — грустновато спросил Захар, когда зеленодольцы дометали последний стог. — В других бригадах еще хуже. Чем кормить скот зимой будем?
— А что тут... — махнул рукой Устин. И добавил, будто оправдывался, хотя его никто не обвинял: — Во всем районе так.
— Петька Смирнов, редактор, вчерась приезжал. В других колхозах, говорит, и того не могли сберечь, — указал Анисим Шатров на редковатый строй островерхих невысоких стожков.
— Мы хоть как-никак кукурузу не потеряли, — сказал Устин. — А во всем районе так и погнила на корню.
— Сомневаюсь, — вставил Андрон Овчинников свое любимое слово, но никто так и не понял, в чем он сомневается.
Захар разрешил людям немного отдохнуть. Но через день-другой ожила, загудела, зазвенела железом ремонтная мастерская, затюкали топорами плотники в недостроенной конторе, закопошились люди вокруг водонапорной башни. Кладка круглого тела башни давалась каменщикам-самоучкам нелегко, а Моторин целыми днями сам держал в руках мастерок, растолковывая и показывая, как управляться с кирпичами.
Но основные силы всех бригад Большаков бросил теперь на раскорчевку леса. День и ночь над тайгой стоял надрывный тракторный вой и треск выворачиваемых деревьев.
Однажды председатель вызвал в контору Варьку Морозову. Несмело перешагнув порог, она прижалась к косяку.
— Вот что, красавица, — сказал Захар. — Поедешь в тайгу, к раскорчевщикам, поварихой. Там людей Мироновна кормит, но сейчас едоков сильно прибавилось, ей одной не управиться. Будешь помогать ей.
Варька сперва пошевелила плечами, поежилась, будто ей было холодно. Потом сказала еле слышно:
— Ладно.
Через полчаса, как Захар и ожидал, в контору заявилась Пистимея.
— Не пущу дочку! — закричала она с ходу, — Еще чего выдумал — девку к мужикам! Мало ли в деревне работы.
— Это уж мое дело, куда кого послать, — спокойно сказал Захар. — И не одна она, Варька, будет среди мужиков. Там Мироновна, там...
— А я говорю — не пущу! Я уж, коли так, вон любую сестру во Христе в помощь Миронихе уговорю. Мало одной — две...
— А я говорю — поедет! — хлопнул ладонью по столу Большаков. — Что это за штуки еще такие? В доярки дочь твою нельзя, в свинарки тоже — в отлучке из деревни за километр-другой, видите ли, придется Варьке бывать. Чего ты за нее боишься? Никто ее не тронет... В общем, чтоб не ныла мне больше тут! Ступай собирай дочку...
В обед Большаков встретил возле пыхтящей электростанции Морозова, проговорил:
— Сколько же с твоей женой насчет Варьки воевать, Устин? Как-то оно получается у нас не так.
Морозов нахмурился, сплюнул на землю.
— Да я уж и сам с греха сбился. Всю душу вымотала она с меня, ладанка ржавая, — сказал о своей жене Устин. Сказал со злостью, почти с ненавистью. И, помолчав, добавил решительно: — Ничего, поедет.
К вечеру этого же дня Варька действительно была уже в тайге, за Чертовым ущельем, сидела на низенькой скамеечке возле лесного ручья и чистила картошку, обмывая ее в студеной воде.
Совсем рядом где-то трещало, ухало, рвало, и Варька каждый раз взмахивала длинными ресницами, а потом вздрагивала.
— Ничего, корчуют матушку, — говорила Мироновна, пожилая, мягкая, круглая женщина. — С корнями выворачивают. Иная соснища уж так крепко сидит — возятся-возятся с ней. Придут мужики обедать — все промокшие от поту. А ничего, вывернут-таки. Корнища-то вскинет дерево в небо, а в корнях — гора земли. А интересно глядеть. Завтра вот сходи-ка погляди.