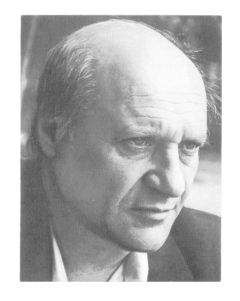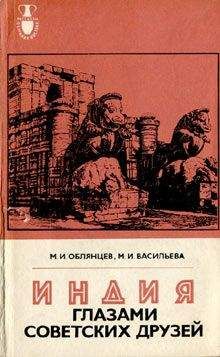Виктор Мануйлов - Распятие
Тявкнула собака, заскулила от нетерпения.
«Ну, гады!» — Иванников шевельнулся и стал выбираться из-под брезента.
Все так же светила луна, но стало будто бы темнее. И тише. Слышны были только голоса немцев да нетерпеливое повизгивание собак.
И тут ветер донес до него гул возвращающегося самолета.
Сперва Иванников даже не поверил своим ушам. Он напрягся, вытянул шею: да, самолет летел сюда, приближался.
В ту же минуту над складами, над станцией взвыли сигналы воздушной тревоги.
За все время, что Иванников здесь, он ни разу не слыхал этих сигналов, хотя наши самолеты летали над Батайском почти каждую ночь. А тут сигналы…
Все так же мечутся от Ростова прожектора, а гул все ближе, увереннее, решительнее. И Иванникова этот гул как бы подхватил и понес на своих волнах…
Это была не радость, не восторг, а неизвестно что: слезы выступили из глаз сержанта Иванникова, горло сдавило, и почувствовал он в себе такие силы, что кинься на него сейчас сто самых здоровенных фрицев вместе с собаками — всех бы раскидал, как котят.
Он снова и снова нажимал кнопку, уже не заботясь, видят ли его со сторожевых вышек, или нет. Теперь это ровным счетом ничего не значило.
Вдруг стало светло, как днем. И даже светлее. Иванников не сообразил, откуда этот свет, это море света, да и некогда ему было соображать. Одно было важным, главным, единственным: там, наверху, неизвестный летчик принял его сигнал и ведет к нему свой самолет.
Продолжая посылать сигналы, Иванников решительно выбирался из своей щели. Только вверх, только навстречу своему самолету. В нем свои, родные, совершенно вольные люди, делающие только то, что могут делать одни лишь вольные люди…
Но и он — он тоже вольный! Он тоже делает то, что хочет делать сам. Он не будет больше падать лицом в снег, он не будет больше участвовать в тараканьих бегах. Он не будет унизительно ожидать своей порции баланды, своего куска чего-то такого, что на их языке называется «бро-от».
Он волен! Волен, как его товарищи по взводу, как его отец и мать в далекой ярославской деревушке. Он сам — по своей воле — выбрал свою долю, свою участь — и слезы ярости последних минут жизни, слезы прощания с жизнью текли по грязным щекам Иванникова, по заросшему жестким волосом подбородку…
— Шнель? Будет вам, суки, сейчас такой «шнель», что не обрадуетесь! Вы еще запомните сержанта Иванникова! На том свете икать будете! — орал Иванников, не замечая, что орет во все горло.
Кто-то тянет его за ватник. Уже поверх штабеля показались головы в касках…
Где-то совсем рядом взахлеб затявкали зенитки, забубукал крупнокалиберный пулемет…
Но гул самолета уже срывается в звенящий стон — так стонут «пешки», когда кидаются в отвесное пике…
Размахивая фонариком, крича что-то бессвязное, Иванников выбирается на штабель. Он уже видит падающий прямо на него самолет: схваченный сразу несколькими прожекторами, тот горит ярким голубым огнем, и огонь этот словно отталкивает летящие в самолет снаряды и пули…
Иванников знает, что с самолетом и людьми, которые находятся в нем, ничего случиться не может: это он заговорил их от снарядов и пуль, от осколков и взрывной волны. И с ним, Иванниковым, тоже ничего не случиться.
Ничего!
Зато этим гадам…
Он слышит нарастающий визг бомб, видит летящие прямо на него горящие зловещим светом две стальные чушки…
А в следующее мгновение его поднимает на горячих крыльях яркое пламя…
32. Небо. Те же минуты
Баранов еще только подводил самолет к той точке, от которой, собственно, и начинается атака на выбранную цель, он еще не отжимал от себя штурвал, посылая машину в пике, как внизу началось такое, чего он никак не ожидал: всегда безмолвная станция вдруг ожила, кинув в небо с полдюжины прожекторов. Его ослепило, и он потерял на какое-то время крохотную пульсирующую точку. И если бы не штурман… Только бросив машину в пике, среди каких-то строений, которые стремительно наплывали на него, он снова увидел — разглядел — слабый в море света огонек.
Баранов еще успел в короткие мгновения атаки заметить сторожевые вышки, штабеля, грузовые машины, фигурки людей, разбегающиеся в разные стороны.
И того человека с фонариком, размахивающего обеими руками.
Где-то в подсознании он успел отметить, что цель стоящая, что, знай командование об этой цели, сюда послали бы не один самолет, а эскадрилью, полк бы послали и с потерями не считались бы.
Баранов целил прямо в фонарик и знал, что никакое чудо не может спасти этого человека. Да он о нем и не думал. Ему некогда было думать об этом человеке. Бесполезно, бессмысленно думать об этом человеке. Война есть война, и на войне у каждого свои задачи.
Баранову уже дважды доводилось бомбить «по наводке». Ему так и ставили задачу: «Пойдешь и сыпанешь на сигнал». И все. А безопасность сигнальщика — дело самого сигнальщика. Тут не до сантиментов и не до выяснения деталей. Правда, думать, что имеешь дело со смертниками наподобие японских «камикадзе», было неприятно. Все-таки свой, советский. И хотелось верить, что сигнальщик остался жить, что он как-то там извернулся.
После первой бомбежки «по наводке» Баранов несколько дней ходил сам не свой, по-всякому представляя себе сигнальщика, почему-то уверенный, что это непременно была девушка. Но если бы его, заметив это состояние, отстранили от полетов вообще, он бы не выдержал: девушка, которую разрывают на части его бомбы, стояла перед ним, как живая, и требовалось такое же сильное потрясение, чтобы избавиться от этого наваждения.
И действительно, следующий же бой с «мессерами», когда он едва дотянул свою израненную «пешку» до аэродрома, вернул ему утраченное было равновесие.
Вторую бомбежку «по наводке» пережил легче: человек привыкает ко всему.
А эта его атака на фонарик не походила на другие. И дело даже не в случайности, не в стечении обстоятельств, а в чем-то другом. Однако сомнений Баранов не испытывал. Для него все было ясно. Он лишь фиксировал в своем сознании: прожектора, зенитки, строения, сторожевые вышки, машины, штабеля с ящиками, люди, человек с фонариком… Фиксировал — и все. Как фиксирует пленка в фотоаппарате. Сознание же его, его воля были сосредоточены на том, чтобы положить бомбы точно в цель, а уж потом, если удастся — вырваться из цепких лап прожекторов, если удастся — спасти машину и экипаж…
Но сперва нужно точно положить бомбы в цель. И не самое этот трудное дело — положить бомбы в цель. Не будь зенитного огня — плевое это дело для такого опытного летчика, как старший лейтенант Баранов. Нужно дойти до цели, прорваться к ней…
Баранов целил прямо в фонарик. Это был его ориентир. Хотя он мог бы сместить прицеливание левее или правее, ближе или дальше от фонарика. Теперь он все хорошо видел, и сигнал уже не имел значения. Он мог бы взять в перекрестие прицела хотя бы вон то длинное строение, возле которого стоят несколько грузовых машин. Однако он вел самолет прямо на фонарик. Наверное, тот человек знал, где расположиться; наверное, он считал, что это место самое уязвимое у немцев, что здесь атакующий самолет меньше всего подвергается опасности быть сбитым раньше, чем он выполнит свою миссию.
Наверное, этот человек все рассчитал заранее. Иначе не могло и быть. Поэтому-то Баранов с такой уверенностью вел самолет прямо на него. Даже не думая об этом.
Впрочем, какая-то мысль была. Она вспыхнула и погасла. До времени. Если оно будет. А может, это была и не мысль вовсе, а что-то только похожее на нее — зародыш мысли.
С ним уже не раз случалось такое: вдруг прострелит в мозгу во время боя пулеметной очередью, а потом, спустя какое-то время, вернется среди ночи в замедленном темпе и начнет раскручивать кадр за кадром. Бывалые летчики называют это подсознательным анализом, который идет в тебе самом помимо твоей воли. Смотреть эти «кадры» было делом даже приятным. Оно вызывало чувство умиротворения. Но лишь в том случае, если задание выполнено полностью. А еще потому, что бой — в прошлом, возможная смерть — в прошлом…
Но что видят те, кто уже ничего не видит? Чей опыт ушел вместе с ними? И способность к самоанализу — тоже. Нет, он, Баранов, не фаталист! Жить хочется — это да. Дожить до победы и посмотреть, как оно будет потом. А иметь полную уверенность, что доживет и увидит — нет, до этого он еще не дошел. В небе он вообще ни о чем не думает. Там думать некогда и вредно. А после боя…
Вот и сейчас его тело — это комок мускулов с отключенным мозгом. В нем существуют свои часы, приводящие в движение то одну часть мускулов, то другую, словно передавая движение по цепочке, отлаженной раз и навсегда, где ничего ни убавить, ни прибавить.
И сейчас Баранов делал все так же, как делал всегда. Но тут что-то случилось: часы сделали сбой и передача движения прекратилась. Цепочка лопнула, не выдержав напряжения. Однако Баранов почему-то не испытал ужаса. Для этого ему, скорее всего, просто не хватило времени. Потому что длилось это несколько мгновений. Часы в его теле отсчитывали время как раз такими ничтожными порциями, которые мозг уловить не способен. Прошло одно мгновение, два, три. Уже пора нажимать рычажок бомбосбрасывателя, уже надо выводить самолет из пике: иначе не выйдешь, а Баранов все медлил.