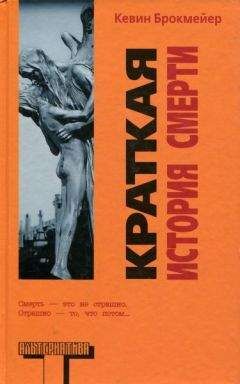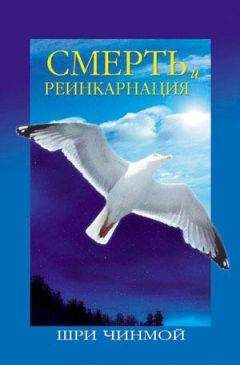Борис Фальков - Горацио (Письма О. Д. Исаева)
Поистине, автор хроники, так далеко зашедший в разрушении её же, извергает при помощи этой обезьяны хулу на саму суть повествования, на сам дух хроники. С обезьяньими гримасами, ужимками, он сам теперь глядится в зеркало своего повествования, самому себе высунув отвратительный, с чёрно-жёлтым налётом язык. Он кривляется сам перед собой, как мерзкий примат, пытаясь дискредитировать свою же хронику! Он пытается добиться того, чтобы вся хроника превратилась в бессмысленную обезьянью ужимку. Иными словами: чтобы его хроника как осмысленное повествование умерла.
Отметим, кстати, что, согласно табличкам хроники, жена короля Марка Изольда к тому времени, когда ей привозят небесную обезьяну, уже мертва. И, стало быть, эта многострадальная женщина тоже находится, увы, не на небесах. Впрочем, эти таблички можно располагать в каком угодно порядке. Хотя бы и в обратном. Заметим ещё: согласно табличке номер 7 Гамлета всё же пытались отправить в загробное царство рыцарей. Правда, под именем Тантриса. Следует спросить, но кого именно? не анаграмма ли также имя «Артур»? Не необходимо ли вместо: «и шляпа Артурова с перьями», читать: «и шляпа с траурными перьями»? За ответом на этот вопрос следовало бы снова вернуться к концу первой части хроники… Но, кажется, если потерпеть — к первой части всё вернётся само собой. И потому — вперёд! К ней же, но вперёд.
А в этой, актуальной части хроника утверждает, что был нанят рыцарь, в обязанность которому вменялось «ходить за могилой Тристана». Роль для рыцаря, кто бы он ни был, унизительная. «Я ходила за кладбищенской оградкой», да, конечно… Но во времена прежние это не записывалось, это лишь устно пелось, да и то — без аккомпанемента и хорового подпевания, и без публики! То есть, это было личного пользования дело, соответствующее интимности самого сюжета. Ведь кто и куда ходит — дело очень, очень интимное, и непристойно рассуждать о том в открытой для общественности хронике! Ясно, что непристойности следствие нескрываемой неприязни рассказчика к аристократии. И не только нашего хрониста, но и всех других в новое время. Непристойности буквально заливают страницы их сочинений. Классовая неприязнь нашего хрониста проявляется не впервые, можно бы и привыкнуть к ней. Но на сей раз, словно для дополнительного унижения, к этому вполне лишнему рыцарю, которого можно было бы вообще не трогать, применяются самые жалкие, самые унизительные для него выражения. Например: «и назначена ему плата». Ещё пример: «а если б тот рыцарь стал плохо исполнять свои обязанности, его бы уволили». Устами хрониста, этой, казалось бы, единственной реальной у нас под руками личности, неприязненные порицания при помощи непристойностей всем рыцарям как классу — высказывает другой класс, масса, новая сила, вспучивающая, ферментирующая, ускоряющая ход хроники и самой истории к концу. За порицаниями ничего, собственно, не стоит, кроме желания осквернить могилы. В этом — в использовании голосом массы уст личности — отчётливо усматривается очередной парадокс. Но и к парадоксам не привыкать читателю, не привыкать и разрешать их при помощи классификации, то есть, простых названий. И этот парадокс — не исключение, и для него находится соответствующий эвфемизм: популизм. Но всё же, благодаря заключённой в нём предвзятости хрониста, этот парадокс, и особенно — этот эвфемизм, вместе совершают и благое дело: снова усиливают подозрения в адрес Гувернала. Следует теперь спросить этого популиста, кто именно нанял рыцаря! И, может быть, мы узнаем нечто важное, услыхав ответ на такой вопрос.
Постепенно усилия, затрачиваемые если не в нужном качестве, зато в избыточном количестве, приносят плоды. Кажется, дело идёт к тому, чтобы в знакомой нам обжорке осталось лишь исходное число посетителей. Инерция этого процесса такова, что актуальным быстро опять становится то самое, с чего хроника начиналась: смерть теперь отпадающего от Тристана Гамлета. Вот и имя последнего уже не в первый раз появляется на текущей табличке. Подчиняясь и инерции, хронист и сам собирается оставить в обжорке — то есть, в живых — лишь себя самого. Если не считать хозяина-патриота и забытую всеми, кроме Гувернала, где-то там в сторонке служанку Бранжьену.
Поглощённый своими действиями, всё очевиднее — корыстными, хронист нетерпеливо подталкивает и без того ускоряющуюся фабулу к концу. Инерция же фабулы и сама по себе достаточно велика, и потому хронист заслуживает жалости: та же инерция требует его собственной смерти. Ведь она неразрывно связана с концом хроники, к которому он, как её автор, необходимо стремится. Очередной парадокс: если хронист попытается избежать смерти, стало быть — конца хроники, под сомнение поставят его авторство. Для последнего парадокса ещё не подобран эвфемизм, он ещё и не понят как следует. И вообще — парадоксов становится слишком уж много, и каждый из них слишком уж сложен. Это поистине гремучая смесь. Это тонкий яд. И копыта отравленной этим ядом лошади — мчащейся вскачь истории, кусаемой шпорами противоречий, гремят подобно тысяче военных барабанчиков, предваряющих ужасную казнь. Куда несётся, куда прёт она? Неужто надеется она, набрав достаточную скорость, пересечь границы, оторваться от почвы, от своего же материала, своей телесности, преодолеть концы — и взмыть в бесконечность, где никаких концов по определению нет, в никуда? Увы, её усилия вполне тщетны. Ведь телесность хроники — мышцы, кости, нервы, железы, все ткани — и есть сама хроника. Конец же её попросту неизбежен, ведь сколько ни преодолевай границы страниц, последняя страница хроники не существовать не может. Почти героические попытки хрониста избежать её написания, стремясь к ней, — это одновременно: подвиг, страдание и преступление.
Эти отчаянные попытки выявляют то, что до сих пор успешно скрывалось: проблему существования самой хроники. Как бы то ни было, а она жива, и представляет собой вариант учения. Гувернал же, автор её, полагает, что все учения мертвы, все идеи, правившие до сих пор жизнью, погибли, ничего нового не предвидится, и потому человечество переживает конец своей истории. При этом он сам не видит уже ни здесь, ни в других местах, никаких противоречий. Парадоксы перестают замечаться кем бы то ни было. Вместе со слепотой, многих постигает разочарование в жизни, но разочарование же вызывает к жизни тёплые, казалось — навсегда умолкшие чувства. Загипнотизированность Гувернала концом, концами вообще, вызывает очередной приступ жалости к нему. Даже у читателя. Увядание, его артурный… траурный запах гниения, что за радость находит в этом хронист? Что за радость в падении в пропасть, или в ударе полумёртвого тела об её дно?
Но Гувернал уже не слышит обращённых к нему вопросов, вслед за слепотой его поражает и глухота. На вопросы он, всё же, отвечает, хотя и невпопад. Например, его иронически спрашивают: «Ты утверждаешь, что все идеи мертвы. Касается ли это твоей собственной идеи Государства-Бегемота?» Не замечая иронии, Гор без промедления отписывает на табличке: «Никто, пардон, не знает, что такое простой бегемот, не говоря уже о государстве. Никто не может его описать, узнать, буде оно явится перед нашими глазами. Ведь на различных рисунках различных хроник этот мифический бегемот выглядит: то как жираф, которого тоже никто не знает, то как единорог, которого узнают только по единому рогу. Неизвестно и место проживания бегемота, поскольку границы Азии и Европы до сих пор строго не установлены. И вообще: существуют лишь три части света — Азия, Европа, Ливия, и ни в одной из них, как известно, никакого бегемота нет». Вот как теперь говорит Гор, предавая свои же собственные идеи. И подозрение на его счёт становится просто ужасным.
«Не предвидится ничего нового», в рамках того же предательства продолжает он. «Само понятие учения умерло. Мертва и История, навсегда мертва, поскольку она была борьбой учений». Эти жалкие попытки хрониста сразу же входят в непримиримое противоречие с пометками на полях его хроники, с появлением там примечаний папы Григория, родоначальника новой идеологии и нового периода Истории. Может быть, автор примечаний — тоже плод неловкого вздрагивания пера, плод случайности, или нового типа шифр, эвфемизм, предназначенный укрывать в Григории всё того же Гора? Что ж, может быть именно потому хронист и не чувствует противоречий, но сейчас нет времени для выяснения причин происходящего, его едва хватает для регистрации самого факта: после слепоты и глухоты Гора поражает и бесчувственность. Обрушившаяся на него болезнь, главный эффект которой — неостановимо увеличивающийся дефицит добродетелей, стремится к своему концу так же решительно, как и хроника — к своему. Как к своему концу, стараясь избежать его, стремится и сам хронист.
Отхлёбывая из кружки, Гор, наконец, приступает к концу непосредственно. Разумеется, он самоуверенно храбрится, хотя сознание сложности проблемы заставляет и его, бесчувственного, трепетать. Ничуть не странно: в этом, наконец, нет никаких противоречий. Сумрачная, неотличимая от осени, непротиворечащая ей весна, чем и объясняются расхождения других хроник в определении даты происходящего. Траурно пахнут едва успевшие родиться бархатно-фиолетовые цветы. Зудят волынки маленького оркестрика. Визжит флейта. Роты совсем не слышно. Барабанщик клянчит деньги у случайных прохожих. Родственники не пришли на похороны, не пришли и друзья. За гробом идут лишь оборванные бродяги: два обнищавших рыцаря, нанятых за гроши… Неизбежность гибели автора в конце истории, жизни и рукописи — ужасна. Никакие блёстки поэзии не украсят её. Эта мысль, будучи автором осознана, устремляется лишь к одному-единственному средству спасения, устранению себя же. А именно: автору следует писать хронику бесконечно. То ли «белого бычка», то ли «Тристана и Гамлета».