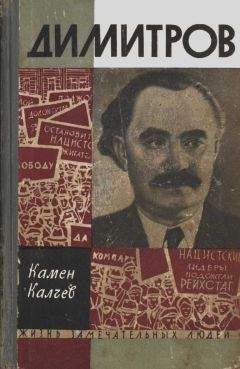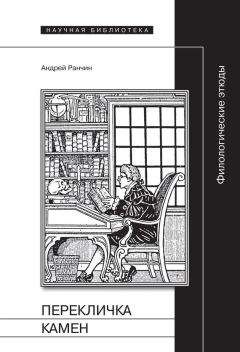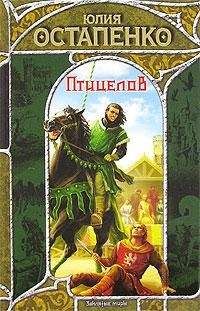Камен Калчев - Новые встречи
— Довольно, уедем отсюда. Меня зовут в Родопы.
— В Родопы? Где это?
— В Рудозем… В Балканах… Встретил двоих наших — бешеные деньги зарабатывают.
Гита кинулась ему на шею и осыпала поцелуями. Цыганская кровь в ней закипела.
— Борка! Милый! — вопила она. — Как я люблю тебя! Буйная ты головушка! Укатим отсюда! Не могу больше!..
И до тех пор ластилась и тормошила его, пока они не тронулись в путь. Упаковали чемоданы и отправились в Родопы. Пожили недолго в Мадане, затем переехали в Рудозем. Новая обстановка, новые знакомства, а к тому же хорошие заработки содействовали их семейному счастью. С работы они уходили вместе, всегда под руку и влюбленно глядя друг на друга, будто впервые виделись. Рабочие подтрунивали над ними:
— Хватит вам любоваться друг на дружку, оставьте немного под старость!
В то время они купили мотоцикл, оделись с иголочки и опять стали строить планы насчет квартиры в Софии. Увидев как-то у мужа набитый деньгами бумажник, Гита снова впала в беспокойство. Снова заговорила о том, что надо переселиться в Софию и подумать о будущем. Она не оставила надежды стать софиянкой. У нее завелись деньги, а что хорошего тут можно было купить? И вот в один прекрасный день они помчались в Софию.
На этот раз столица встретила их более приветливо. Может быть, потому, что они поселились в лучшей гостинице, ближе к центру. А может, потому, что стояла весна, бульвары зазеленели, в садах цвели розы и людям было веселей — кто знает… Мечта Гиты сделаться столичной жительницей разгоралась с каждым днем. Она таскала Бориса с одной стройки на другую, толковала с подрядчиками и строителями, торговалась, требовала, чтоб комнаты выходили на восток, чтоб в квартире были ванна, кладовые, душ… Гита до тонкостей постигла строительное дело. Борис сопровождал ее и лишь молча кивал головой, уверенный, что вся эта канитель напрасна, все равно ничего не выйдет. И он не ошибся. Оказалось, что в силу каких-то непонятных законов и правил договор на строительство нельзя было заключить, не будучи жителем Софии. Борис остался доволен таким исходом — ему не хотелось тратить деньги на кирпич и цемент.
— Я поняла, — сказала Гита, — что такой ротозей, как ты, не сумеет устроиться в Софии. Но решительно заявляю, что уйду от тебя, если ты вздумаешь остаться в глуши. Так и знай.
— Подумай, что ты говоришь, Гита!
— То, что ты слышишь… Тебе, как видно, очень по вкусу жить среди помакинь[8]… Так и зыркаешь глазами туда-сюда… Хоть бы меня постеснялся!
— Гита!
— Извини, что доставила беспокойство! Сделай милость!
Она поклонилась Борису, неожиданно охваченная ревностью и злобой. Месяца на два, на три хватило этой ревности — достаточно для того, чтоб в волосах у него забелела седина. Он осунулся, похудел, словно после лихорадки. Но ни с кем не поделился своей мукой, никому не пожаловался. Рыл, копал в рудниках, трудился и зарабатывал деньги.
Мысль вернуться в родные края все чаще приходила ему в голову. Капризы Гиты невольно обращали его к прошлому, где он оставил не только честь, но и крошечное существо, о котором вспоминал с тупой, неосознанной болью, гнездившейся в глубине его сердца. Валя, которую он никогда не видел, представлялась ему очаровательной в розовой дымке отцовского воображения. Что бы ни случилось, размышлял он, пусть хоть весь белый свет забудет о нем, все же останется ниточка, связывающая его с жизнью. Вот почему в тяжелые минуты он цеплялся за эту ниточку, надеялся на нее.
Но прежде, чем вернуться и начать сводить счеты, он хотел побольше заработать, разбогатеть, чтобы ни от кого не зависеть. Тогда и Гита переменится, и радость свидания с дочкой вольет свет в его горестное житье.
Перебирая сейчас в памяти все события, одно за другим, Борис пришел к выводу, что жизнь сделалась для него невыносимой с тех пор, как Гита стала работать санитаркой в местной больнице. Как все это произошло, он еще не сумел разобраться. В один прекрасный день Гита предстала перед ним в белом халате и белой, похожей на тюльпан, накрахмаленной шапочке.
— Что это, Гита?
— Как я вам нравлюсь? — спросила она вместо ответа, не отрывая взгляда от зеркала, где видела себя во весь рост. — Сегодня главный врач два раза принял меня за доктора… Похожа я на доктора, как по-твоему?
Борис смотрел на нее в недоумении.
— Ты что же, санитарка?
— Все принимают меня за медицинскую сестру.
— Это главный тебя назначил?
— Нет, назначил меня товарищ Минков из гинекологии. Большой души человек!.. А по секрету сказал, что переведет меня в медицинские сестры, как только утвердят новые штаты… Не веришь?
— Почему же не верить.
— Да, а пока я помогаю роженицам… и разные там другие дела… Правда, мне идет халат и шапочка?.. Сразу преобразилась, будто другой человек… Согласись!
— Да, да… — рассеянно отвечал Борис. — А этот, из гинекологии… Минков… он что…
Гита отскочила от зеркала и строго посмотрела на него.
— Что, опять тебя укусило?
Борис промолчал.
— Ревнуешь? — она повысила тон. — Подозреваешь? Меня подозреваешь? Да, другого от тебя и ждать было нельзя! Жаль! Однако на сей раз ты ничего этим не добьешься! Не раба я тебе больше. Понимаешь? Точка, конец! Я ведь тоже хочу продвигаться!
— Ничего плохого я не сказал, — извинился Борис. — Спросил только, разве этот доктор…
— Я прекрасно понимаю, о чем ты спрашиваешь, — прервала его Гита. — Прежде всего этот доктор вполне благородный человек… Нет у него никаких задних мыслей, как ты воображаешь… Душа-человек! Идеалист, а не материалист, как все прочие мужчины… Уж я-то их знаю!..
— В конце концов, и он мужчина, а не душа!
— Да, но идеалист.
— Безразлично.
— Что ты хочешь этим сказать? Объясни.
— Объяснять нечего. Все сказано.
Несмотря на недовольство Бориса, Гита взялась за работу с воодушевлением. Каждое утро она отправлялась в гинекологическое отделение, с удовольствием надевала белый халат, белую шапочку и расхаживала по палатам и коридорам, часто останавливаясь перед зеркалами и раскрытыми окнами. Орудовала Гита метелкой и тряпками, обтирая столы и шкафчики, и тем не менее редко кто звал ее в больнице санитаркой. За короткое время она успела сдружиться со всеми, и хоть знали, что она простая санитарка, но, обращаясь к ней, называли — кто в шутку, а кто и всерьез — сестричкой. Гита вертелась всюду, где надо и где не надо — и среди докторов, и среди сестер — и дольше, чем нужно, задерживалась в кабинете «благородного» доктора. Это был молодой человек с русыми усиками и голубыми глазами, которые всегда загорались улыбкой, как только «сестричка» появлялась у него в кабинете.
— Ну как дела, Гита? — спрашивал он.
— Очень хорошо, товарищ Минков! Отлично!
— Радуюсь.
— Правда?.. Уж больно мало у тебя зеркало, товарищ Минков, не могу как следует посмотреться… Хочется всю себя увидеть, а то…
— Зеркало маленькое, зато сердце у меня большое, Гита! Что смеешься, не веришь?
— Верю.
— А почему смеешься?
— Приятно мне.
Увлеченная такого рода разговорами, «сестричка» забывала о своих служебных обязанностях, бросив тряпки где-нибудь в коридоре. Это возмущало других санитарок — они не намерены были убирать за нее. Потребовали, чтоб Гита не болталась попусту, а больше следила за веником и тряпками. И наконец ее серьезно призвали к порядку, сделав строгое указание на производственном совещании.
— Да что ей это строгое указание, братец, — рассказывал потом завхоз. — Приняла как похвалу… Помимо всего прочего, она ставила в неловкое положение и доктора Минкова — постоянно торчала у него в кабинете. А то взялась таскать его на экскурсии в горы и мужа своего как свидетеля водила… Эх, да что тут говорить, братец ты мой!.. Неплохая она девчонка, только взбалмошная какая-то… Даже со мной принялась было заигрывать! Поймала, понимаешь, меня за усы и говорит: «Срежь усы или я их выдеру!..» И дернула, понимаешь, не в шутку… «Отстань, ну тебя», — говорю ей, а она все дергает. «Как, — говорит, — тебя жена терпит с такими замусоленными усами! Я на ее месте и не взглянула бы на тебя!» Взяла, озорница, да как щелкнет меня пальцем по носу, у меня аж искры из глаз посыпались! Легонько я толкнул ее, а она наклонилась и поцеловала меня в лоб, так себе, шутки ради… Рассмеялась и ушла. А я остался не то на небе, не то на земле! Усы-то мне больно, но и сладко так от ее поцелуя. Нежные, горячие губы, прямо обожгли меня, понимаешь… И где только уродилась такая, в толк не возьму… Нашим женам, понимаешь, трудящимся женщинам, братец ты мой, и на ум не придет такое озорство.
Около полугода Гита с победным видом расхаживала по больнице, пока ее не вызвали в отдел кадров и не сообщили вполне вежливо, что ей придется оставить работу ввиду сокращения штатов. Гита не рассердилась, не обиделась. Впрочем, у нее уже другое было на уме: как и Борис, она стосковалась по родным местам.