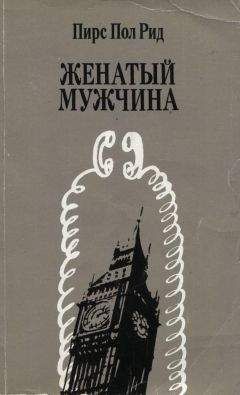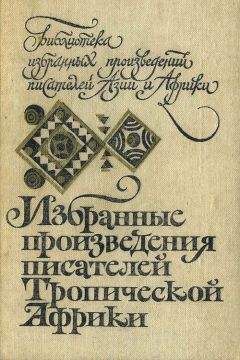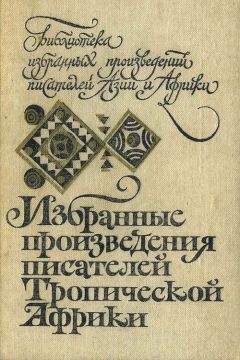Джим Гаррисон - Волк. Ложные воспоминания
В зыбком мире Грин-стрит некому было сказать «пока». «Висячие сады» пусты – кто-то, может, попался легавым, остальные разбежались. Я прошел по Гранту до Гиэри, потом опять через сад, показав оперному театру средний палец. На хуй оперу. Кому она нужна? La Bohème[76] разве что. А на закуску – непоколебимый индюшачий пирог со сливками. Я купил старый железный чемодан, как у военных летчиков, решив, что с ним будет куда легче ловить машину, чем с вонючей скаткой.
На 80-м шоссе меня согласился подвезти до Сакраменто какой-то бизнесмен, решивший, что я военный летчик в отпуске. Я сказал нет, и он обвинил меня в ложной рекламе. Он служил во время Второй мировой, сказал он, и всякий раз, когда видит, как наши ребята голосуют на дорогах, с радостью им помогает. Я ответил, что мой отец погиб во время Батаанского марша смерти,[77] и бизнесмен смягчился. Он похлопал меня по руке и сказал, что Бирма дорого нам обошлась. Моя наглая ложь сослужила мне добрую службу. Эти япошки – просто куча упрямых желтых ублюдков. Он все говорил и говорил и говорил, пока я не задремал. К Сакраменто меня затошнило от, как я подумал, легкого пищевого отравления. Был уже поздний вечер, я переполз лужайку перед капитолием и долго блевал в кустах. Потом свернулся калачиком на траве и проспал, постоянно дергаясь и думая, что какой-нибудь полицейский сейчас потревожит мой покой.
Я выбрался из кустов пораньше, размышляя, какое подходящее место нашел для тошноты, – смешно, хотя желудок у меня слегка крутило. Капитолии нужно переделать в блеватории, пусть все начнется сначала там, где ничто не давит. Скажем, голоса можно собирать в чистом поле, по которому на четвереньках будут ползать голые законодатели, выкрикивая «да» или «нет». Новые перспективы. Истинное смирение перед лицом заботы о миллионах беспомощных граждан. Если вам доводилось бывать в Вашингтоне, вы, возможно, тоже это почувствуете – что может выйти из гигантского нагромождения мрамора и монументов, кроме помпы, бессмыслицы и апатии? Такие здания порождают чванство, а оно деструктивно. Предлагаю сровнять с землей все их постройки, кроме памятника Линкольну, торгового центра и бассейна перед ним. И пусть толковый скульптор сваяет подходящего М. Л. Кинга, чтобы тот лежал на коленях у Линкольна на манер La Pieta.[78] Только со здоровенной дыркой в голове. Мы смертны, о Господи. Палец на спусковом крючке зудит и давит, зудит и давит.
С первыми лучами солнца я выпил в ночном кафе три чашки чаю и прочел воскресную газету, не запомнив ничего, кроме модели в бикини из раздела «путешествия», над которой витало изящное облачко: «ПОЛЕТЕЛИ НА БЕРМУДЫ». С радостью. О, солнечный остров чигадигдигду. Через Сьерры меня повез таксист из Фриско, отправлявшийся на выходные в Рино, чтобы при помощи новой системы побить «Клуб Гарольда». Взяв с меня обещание никому не рассказывать, он разъяснил сомнительную математику блэкджека и прокулдыкал все сто миль прекрасного ландшафта. Он показал мне ущелье, где экспедиция Доннера нашла свой людоедский конец. Буквально. Вот тебе, Брэд, кусочек маминой печенки. Много лет назад в этих местах мирно гулял Джон Мьюир,[79] а теперь люди наступают друг другу на пятки и дерутся за место для палатки. В национальном парке Скалистых гор я забрался на «высокое одиночество», улегся у самого ледника и уже начал засыпать, как вдруг услыхал мелодию «Ты мое солнышко».[80] Милое семейство прихватило с собой проигрыватель на батарейках. Из Скарсдейла, не меньше. В шестнадцать лет я был неправдоподобно задирист, а потому объявил, что размолочу их машинку в хлам, если они немедленно ее не выключат. По пути из лесу меня остановили у будки рейнджера и попросили заполнить длинную анкету насчет общего качества обслуживания в парке и удовольствия, которое я там получил. В ответ рейнджер услышал пронзительное «пошел на хуй!», и, когда на шум собрались прочие отдыхающие, в его взгляде читалось: «М-да, бешеная собака, будем надеяться, она куда-нибудь свалит». Отель, где я работал, уволил меня незадолго до того за безуспешные попытки создать профсоюз работников столовой – потом, правда, взял обратно. Мы пахали по три смены подряд с короткими перерывами, и менеджер отеля предложил мне триста долларов, чтобы я все замял. Альтернативой была короткая и вынужденная поездка в Денвер с помощником шерифа. Я отменил забастовку, но отказался взять деньги, которые в то время очень бы мне пригодились. Я купался в лучах славы и гордости. Черт побери, Рейтер-младший не продается. Я надеялся, что Стеффенс и Герберт Кроли[81] смотрят на меня сейчас из рабочего рая. Конечно, я зассал, нужно было ехать с легавым в Денвер. Но он мог нанести мне телесные повреждения. Я отплатил руководству отеля мелким саботажем – тырил, что плохо лежит, вырубил хладогенератор, носил в номера сырые яйца. Мне было очень стыдно подкладывать такую свинью скромной пожилой даме, которая всегда очень хорошо ко мне относилась. Я подал ей два абсолютно сырых яйца, затем галопом на кухню к телефону получать жалобу. Очевидно, ее мужу, который, судя по звукам, мылся в душе, когда я принес заказ, сырые яйца пришлись не по вкусу. Принесите мне, пожалуйста, два других. Да, конечно, изменив голос, затем к холодильнику за двумя крутыми яйцами и послать их с другим официантом. Неприятно, разумеется, но пятнадцатичасовый рабочий день – это уж совсем ни в какие ворота. Самую мужественную акцию я совершил, уронив на пол целый поднос вилок и ножей во время тихого нежного ужина, когда на Лонг-Пике поблескивало солнце. Жуткий грохот и перекрученные шеи гостей. Я медленно собирал посуду, слушая проклятия метрдотеля и главного официанта.
В темноте палатки под постепенно гаснущим фонарем я сидел, скрестив ноги, и разглядывал карту. Я наметил себе десятимильный круг: сначала на запад, затем на север, потом обратно на восток и на юг к палатке. Неплохая прогулка при условии, что я выйду на рассвете и что не заблужусь. Я выключил фонарь и растянулся на спине в спальном мешке. Кажется, я худею, но дело может быть в жидкости, поскольку не пью. Я ощупал живот, грудь и слои жира, медленно копившиеся все эти годы. С высоты 1970 года представлялось, что начиная с 1958-го я двигался не столько вперед, сколько в сторону. Выпустил три супертонких сборника стихов, занимающих на полке примерно один дюйм. Череда не особенно интересных нервных срывов. Прочитано несколько тысяч книг, и не почерпнуто ни капли мудрости. Я больше не таскаю с собой книги, подобно ходячему банку крови, – слабительное для тоски. Глотаю по мере надобности. Прими, когда заблудишься, и девочка, что водит в прятках, найдет тебя, как находит всех заблудших овечек. Говорят, какой-то человек, катаясь в нью-йоркском метро, нашел там очертания мандал. Я стал скрывать свое прошлое еще и потому, что мне самому оно уже почти неинтересно. А будущее спрятано еще дальше. Не то чтобы я был недоволен или как-то огорчен перспективами. Когда-то я планировал обойти по периметру Соединенные Штаты, но в то же самое время собирался проехаться на транссибирском экспрессе, на Восточном экспрессе и пройти по Африке тропами Рембо. Все эти намерения с самого начала оказались пустым звоном и позолотой. Мне опять двенадцать лет, я вытачиваю у себя в комнате стрелу с широким наконечником, и тут кто-то внизу говорит, что Айк[82]скоро выведет войска из Кореи. Где и зачем была эта Корея и Панманхьон? По карте на той стороне плоского синего океана, на той стороне Марианской впадины. Остановка на Гавайях, где много голых пупов. Я знал, что умираю постоянно, день за днем. Все двадцать четыре часа в ускоряющемся темпе. Вояж в Иерусалим, посмотреть, где ступал Иисус. И подумалось мне, что я все еще ортодоксальный христианин и верю во Второе Пришествие. Лев из колена Иудина. Последнюю книгу Библии до сих пор перечитываю с ужасом – Откровение. Я больше не мечтаю поговорить с Ганди или Рамакришной. Только с Шекспиром или Аполлинером, но и тогда обмен информацией выйдет незначительным и робким. Они станут удивляться цветным телевизорам и быстрозамороженной пище, как все жадные до подробностей великие художники. Если завтра я найду волка, или хотя бы замечу издали, или, что совсем уже невозможно, наткнусь на логово, это вряд ли как-то повлияет на тот факт, что меня предала моя первая любовь. Взаправду я скорбел лишь о мертвом прошлом и о катастрофических перспективах, мое пристрастие к настоящему этого леса легко объяснялось. Деревья не грузят никого своими проблемами, и даже если всю дикую природу погубят окончательно, я застолблю себе сотню акров, спрячусь там и буду защищать свой пятачок превосходно поставленным оперным воем. Запасшись бумагой для самокруток и табаком «Баглер», стану отшельником. Старлеток для осеменения будут сбрасывать на парашютах прямо на мой пост: бедные девушки бесцельно бродят по округе, недоумевая, на кой черт это все нужно, а следом я, как Рима-птица[83] в мужском обличье, прикидывая размер их задниц. И половых щелей. Чтобы спариваться не один раз, а тысячу. Хватит и одной, если отдать ей себя целиком, и если ты способен отдать себя целиком кому-нибудь или чему-нибудь. Порыв представляется слишком атавистическим и отпускает не дольше чем на день, разве что во время болезни, затем опять начинает копошиться ласковый червяк, как бы без всякой цели. Я сел, пытаясь поймать новый звук – почти лай, только гортанный. Наверное, медведь вздумал среди ночи совершить набег на пчелиное дупло, но был ужален в нос и в пасть. Я рубил такое дерево зимой, когда пчелы вялые и совсем сонные, они падали из дупла на землю и мгновенно замерзали – температура была почти нулевая. Я орудовал топором, пока не добрался до тайника с медом – кроме всего прочего, это их пища. Снял рукавицу и зачерпнул целую пригоршню. Не очень хороший, почти прогорклый, с гречишным привкусом. Сунул липкую руку обратно в рукавицу и потопал прочь на своих снегоступах. Лучше всего приметить дерево с дуплом летом и вернуться к нему, когда будет достаточно прохладно и пчелы не жалят. Рабле сказал, что пизда – это горшочек с медом, только, конечно, без пчел. Входишь первый раз, и вот он – панический стук сердца в твоей груди. Остановимся на сексуальности, пока она еще не атрофировалась благодаря нашему прогрессу. Мы бы выглядели более чем странно в глазах тех наших предков, кто был занят строительством цивилизации. О том, как лепить кирпичи без соломы, говорили в Египте фараону перед долгой дорогой на север. Я провел рукой по стволу ружья и подумал о безжалостности этого механизма. Лики[84] подкрался к оленю и заколол его ножом, выточенным из камня, чтобы продемонстрировать, что это возможно. Последним спортивным состязанием будет метание камней в звезды, на финальную игру явятся все пятьдесят миллиардов земного населения, и падающие камни принесут им безымянную и неизбирательную смерть. Я ворочался без сна и тянулся за воображаемой бутылкой. Иисус хочет сделать из меня солнечный луч. Земля и та женского рода. Миллионы людей целовали ее ежедневно, пока до Раскольникова не дошло, что это епитимья. Трава еще растет. Эта девушка, которую ты знал в 1956-м, просидела год на героине, потом ее нашли в Ист-ривер, голова почти отдельно от туловища. Никакого фатума. Несчастные случаи происходят с теми, кто решил заняться блядством для поддержания привычки любого сорта, – так мой мозг усох от череды работ в пастельных офисах всяких разных городов. Хочется надеяться, что, если нанести мои блуждания на карту, связующие цифры сложатся во что-то осмысленное, хотя, скорее всего, ни во что они не сложатся. За стенкой палатки то ли мышь, то ли суслик. Господи, я же тебя просил – не нужна мне этой ночью полная луна, пусть бы хоть прикрылась. В Брук-Рейндже, сейчас загаженном нефтью, цистернами и вышками, я читал о женщине, которая умела выть, и волки ей отвечали. Серебряный свет через переднюю стенку палатки. Я встал на корточки, зарядил ружье и выполз наружу. Ни облачка, ни даже легкого ветерка. В Карпатах цветет аконит. Я вздохнул, глядя на луну, убедился, что ружье на предохранителе, загнал патрон в ствол и прицелился в серое пятно на ее поверхности. Если нажать сейчас на собачку, будет голубое пламя и грохот до самого утра. Я мягко снял курки со взвода и подбросил в костер полено – в одних трусах мне стало холодно. Уперев конец ствола себе в лоб, проверил, можно ли из этого ружья застрелиться, дуло было холодное, и мне стало еще холоднее. Подумал, как Хемингуэй, измученный непостижимой болью, душевной и физической, доставал в то утро из шкафа ружье. Я улыбнулся про себя. Как же я снова далек от того, чтобы наложить на себя руки в этом лесу, покрытом кожей лунного света. Полено начало заниматься, с края горячих углей взметнулось пламя. Я пододвинулся на корточках поближе к огню, потом встал, стянул трусы и снова на корточках приблизился настолько, насколько мог терпеть. Посмотрел вниз с вялым изумлением – и зачем только совать эту штуку в девчонку. Как приятно. Я собрался было повыть, надеясь на малоправдоподобную возможность получить ответ, но решил, что только сам себя напугаю. Вспомнил, как после футбольной тренировки мы затеяли с приятелем драку – сперва поругались, а потом я кинулся его душить, сжимал, пока лицо не изменило цвет. Испугался, и злость сразу куда-то делась. Когда мы встали, он как-то странно на меня посмотрел, и с тех пор мы почти не разговаривали. У ручья в зарослях кустов и деревьев что-то зашевелилось, и я пожалел, что не взял с собой пугач для хищников – такую маленькую деревянную штуку типа свистка, если правильно в него подуть, получается писк, как у умирающего зайца. Жуткий сдавленный звук, немного похожий на тонкий детский плач. Такой звук издает смертельно раненный дикобраз, когда падает с дерева. Их сейчас стало очень много, потому что их врагов, хищных куниц, из-за красивого меха почти всех выловили. К дикобразу просто так не подойдешь – я не раз вытаскивал из собачьих зубов его иголки. Обрезаешь концы, чтобы в полость вошел воздух, затем поворачиваешь и дергаешь. Выходит иголка и брызги крови, собакам очень больно, но они словно знают, что это необходимо. Хочется делать неправильные выводы из всего на свете, очевидные научные факты никак не влияют на мой слабый мозг и его непрекращающийся нудный монолог о себе самом. Я вышел из светлого круга, который отбрасывало пламя, и медленно зашагал к ручью, надеясь выяснить, что там шумит. Ничего – наверное, зверь убежал, когда я поднялся. Проживи я тут подольше, животные убедились бы, что я безвреден, и привыкли бы. Вдоль ручья много лягушек и енотов, которые их едят. Вечно чистятся, будто соколы, чтобы не завелись блохи. Я вернулся в палатку и залез в спальный мешок, он был дешевый и прочный, но по холоду бесполезный. Спать на земле абсароков в мешке из мумифицированного пуха и думать, что сейчас придет гризли и обдерет тебе физиономию, как тем девочкам на леднике. Спать на столах для пикника в Гастингсе, Небраска, и в Брейнерде, Миннесота. Лучше всего спать с девчонкой, которая утром проснется раньше тебя: в том доме я был гостем, а она – смешной и любопытной. Всего четырнадцать лет, я даже не вошел, хотя, может, и было, она еще принесла апельсиновый сок и кофе. Я с обмотанной вокруг ног простыней, а она открыла дверь комнаты, у меня на глазах подушка, дочь знакомого, когда в Висконсине я читал стихи собранию обыкновенных дурней, колесных или кислотных выродков и обалдевших старшекурсников. Она смотрит на мой маяк и хихикает. Сколько тебе лет. Дурашливо обнимаемся. Она держит его слишком крепко. Что если родители. Я этим опарышам никогда ничего не говорю. Платье такое короткое, задрав его, я зарываюсь лицом, потом стащил трусики. Она смеялась, ей было щекотно. Ну конечно, а еще у нее очень много зубов, а я не могу ничего удержать. Я сейчас здесь задохнусь, оттого что она молчит и извивается, как все ее старшие сестры на свете, а потом, когда я кончаю, она на четвереньках и все еще выгибается. Помывшись, я возвращаюсь в комнату, она лежит на спине, платье все так же задрано, и разглядывает фотографии в моем бумажнике, трусы закручены на щиколотках, улыбается: «Здорово, я люблю пообжиматься». Может, я не первый, я не спрашивал. Когда-то мы говорили: за семнадцать получишь двадцать, подразумевая, что секс с малолетними осуждается, но как в наше время можно что-то знать заранее? Прикоснись им на секунду, поводи взад-вперед посильнее, ноги у нее подняты, мы целуемся взасос, и почти войди пониже для завершения. Перепуган, а она как ни в чем не бывало, только говорит: твой кофе уже остыл, я принесу тебе горячий. Я люблю тебя, конечно, подумал я, и вернусь, когда ты не будешь годиться мне в дочки или не будешь младше меня в два раза. Больше волос. Неужели ты теперь испорчена, тебя испортил я. В мозгу у меня опять Жан Кальвин,[85] с тех пор я уже десять раз облился виноватым потом. Я ношу с собой ее маленькую школьную фотографию, она там со светло-каштановыми волосами и ампирными кудряшками над ушами. Гладкая, смуглая, сильная, она все время играла в теннис, но попка совсем белая. Нужно было покаяться перед родителями, умыкнуть ее в Виргинию, где такой возраст совсем не помеха, и ебаться, пока мой мозг не насытится и не превратится в склад цветов жимолости с ее запахом. Первые краски рассвета, и можно не заморачиваться со сном, если я собираюсь пройти свой круг.