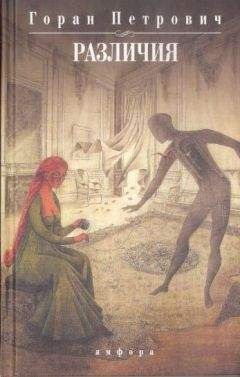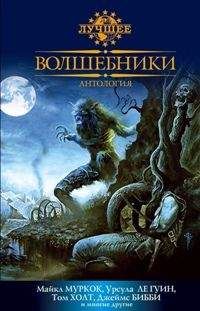Горан Петрович - Остров и окрестные рассказы
Что дальше? Отец смотрит на сына. Смотрит прямо в его глаза и видит, что малыш не отступит, что он потребует объяснений, откуда он знает, что пятьдесят метров — это много. И сколько это много, а сколько мало? И есть ли разница? Что дальше? Пока сын упорно ждет ответа, отец раскаивается, что вообще позволил начать этот, казалось бы, безобидный разговор, который теперь угрожает перерасти в нечто такое, что превосходит его возможности, независимо от того, что он попытается сказать.
Большие, важные тайны
— Откуда? Откуда я знаю? — повторяет мужчина, оказавшийся в крайне затруднительном положении. — Ну... Я просто играю, что мне пять лет.
— Ага... — медленно тянет мальчик.
И прищурившись, с выражением недоверия на лице ожидает, что отец обернет все в шутку, засмеется. Но ничего похожего не происходит. Только продолжается бомбежка, продолжают дрожать стекла, словно вот-вот вылетят. Отступая от окна, подальше в комнату, отец и сын видят, как за далекими горами вырастают и врастают в небо густые кусты дыма. Потом они поворачиваются лицом друг к другу. Оба серьезные, похожие на людей, которые только что обменялись какими-то важными тайнами.
НА ОТМЕЛИ
Книги, на которых нет пометок, слепы. Я готов царапать, если под рукой нет карандаша... Заметки на полях вселяют в книгу душу
Милорад ПавичИтак, некоторое время назад в белградском букинистическом магазине, том, что в здании Академии, он считается самым большим, мое внимание непонятно почему привлекло одно давно устаревшее издание «Просветы» — Малая энциклопедия 1959 года. Вокруг стояло множество лакомых для библиофила раритетов, куда как более важные названия, кожаные хребты с золотым тиснением, бронзированные издания конца XIX и начала XX века, литература на иностранных языках, загадочные, так и не разрезанные журналы всевозможных научных обществ, свернутые трубкой карты давно исчезнувших государств и афиши забытых театральных постановок, сентиментальное чтиво наших барышень времен между Первой и Второй войнами, вышедшие из употребления учебники, своды утративших силу законов, всевозможные брошюры, подшивки журналов «Здоровье», «Пограничник», «Зарница», «Союзник» и некоторых других, непонятно каким образом дошедших до наших дней, а кроме того, и более поздние книги, ценные, но, как это у нас бывает, никогда больше не переиздававшиеся. Тем не менее среди всех этих сокровищ моя рука потянулась именно к этим томам, единственным в своем роде по их печальной заурядности, которая к тому же подчеркивалась и ценой, оскорбительно низкой, фактически символической. Ни вид заметно потрепанных матерчатых переплетов, ни инициалы бывшего владельца, Н. Н., ни указывающее на его профессию слово «учитель», которое он дописал после этих двух изящно изогнутых букв, — ничто не обещало хотя бы небольшого приключения, одного из тех, ради которых мы, собственно, и заходим в места, где продают редкие книги.
— Не может быть, это же «Поездки по Сербии» Иоакима Вуйича... — произнес кто-то рядом со мной и быстро выхватил с полки издание Сербского книжного объединения 1901-1902 годов; на месте солидного голубого переплета осталась зиять пустота.
— «Путешествия по Сербии», а не «Поездки», — оборачиваясь, исправил я сухощавого молодого человека, который как раз в этот момент прятал находку под пальто.
— Вы ничего не видели... Мне нужно для дипломной работы... — подмигнул студент, свободной рукой провел по стоящим рядом корешкам, чтобы скрыть прореху, и надменно смерил взглядом предмет моего интереса.
Как открытые наобум страницы заставили улетучиться все подозрения в заурядности
Но все подозрения в заурядности книги улетучились уже на первых же, наобум открытых страницах. Большая часть полей энциклопедии издательства «Просвета» была исписана мельчайшим аккуратным почерком бывшего владельца, в некоторых местах настолько мелким, что требовалась лупа. Дело в том, что этот учитель повсюду, где позволяло место, рядом с тем или иным абзацем добавлял и свои наблюдения, чаще всего авторучкой, то синими, а то черными чернилами, реже красными или зелеными, хотя время от времени использовал и обычный карандаш, причем кое-где, судя по толщине букв, даже толстый, столярный. То там, то здесь оригинальный текст был грубо перечеркнут, иногда подчеркнут. Комментарии иногда обогащали новыми данными биографии тех или иных лиц, иногда уточняли или исправляли приведенные в какой-либо статье цифры, но чаще всего представляли собой страстные возражения против отдельных утверждений составителя энциклопедии. Я был взволнован не меньше, чем историк литературы, которому повезло открыть новое, ранее неизвестное произведение.
— Если хотите, можно завернуть, — на лице продавщицы букинистического магазина мелькнуло любезное выражение, видно, и она была рада, что наконец-то избавится от книг, с которыми не знала, что делать.
— Спасибо, не нужно... Я понесу их прямо так... — ответил я удивленно.
— Как хотите, — уже более холодно произнесла она, почувствовав, что перестаралась.
В пробеле между руслом и гранью забвения
Состояние волнения отнюдь не покинуло меня и дома, где я смог без помех заняться изучением автографа, по порядку разделить слипшиеся от времени страницы, аккуратно разгладить загнувшиеся уголки и очистить пожелтевшую бумагу от хлебных и табачных крошек, выпавших волос и давно мертвых книжных букашек. Состояние волнения отнюдь не покинуло меня и тогда, когда в спокойные предвечерние часы я уселся за стол и углубился в толкование слов. Правда, Н. Н. не хотел или не мог придать своим строкам форму рассказа или романа, но в миниатюре он делал все то же, что обычно делают писатели. В узком пробеле (я измерил его со всей возможной точностью: ровно один сантиметр и восемь миллиметров в ширину) между руслом основного, отпечатанного в типографии, текста и самой гранью забвения, словно на белой отмели расположились попытки извлечь из мощного течения событий хоть какой-нибудь сухой остаток, рассмотреть хоть чью-нибудь отдельную судьбу. Пестрота и число этих заметок не обещали успешной, более или менее четкой систематизации, однако можно было заметить некоторые основные требования, которые предъявлял к себе анонимный автор.
— Смотрю я на тебя, смотрю и начинаю подозревать, что, наверное, ты выбираешь книги в зависимости от того, сколько в них пыли, — язвительно заявила моя жена, ставя передо мной пепельницу, чтобы я не стряхивал на пол крохи чужой жизни.
— Как ты считаешь, может быть, следует вооружиться чем-нибудь более достойным? — я воспользовался тактикой ответа вопросом на вопрос и выразительно посмотрел на стоявшую рядом с телефоном овальную шкатулку из бледно-зеленого оникса, предмет, привезенный из какого-то давнего путешествия и превратившийся в хранилище никому не нужных мелочей.
— В качестве урны? — медленно перекрестилась моя жена.
Запись на записи, и так, пока не получится пятно
Рядом со статьями, касающимися национальной истории, по несколько раз, красными чернилами, была отмечена важность отдельных эпизодов, другие статьи были сокращены, а некоторые и вовсе заклеены кусочками исписанной бумаги и тем самым полностью уничтожены. Тексты такого рода были полны «весомых» слов и словосочетаний, таких как: увенчанный славой, подвиг, беспримерный героизм, поворотный момент, монументально и тому подобное. Правда, встречались и полностью противоположные понятия: выродок, отцеубийца, льстивый, ради личной выгоды, ослепленный властью и так далее, в таком же духе. Характерным для этих записей было то, что, несмотря на свою категоричность, они потом многократно исправлялись, дополнялись, затем снова покрывались новыми, иногда полностью противоположными, но опять же совершенно недвусмысленными толкованиями. Кое-где этот палимпсест имел столько новых слоев, что старые и новые записи наползали друг на друга, превращаясь в невозможное для прочтения пятно, которое на жаргоне профессионалов и по сей день называется «свиноматкой». Головокружительные замены, которые вели за собой автора, кое-где заканчивались и вполне искренним, почти трагическим комментарием: Не знаю даже, что теперь и думать об этом или отчаянным воплем отказа от дальнейшего осмысления: Нет, это выше моих сил!
— Неужели у нас нет более нового, дополненного, трехтомного издания этой энциклопедии? — спросила меня жена, принеся бутерброд и чашку чая; день давно подошел к концу, и ей надоело ждать, когда я выйду ужинать.
— Есть большая разница... Там не хватает его жизни, — попытался объяснить я, указав пальцем на инициалы Н. Н.