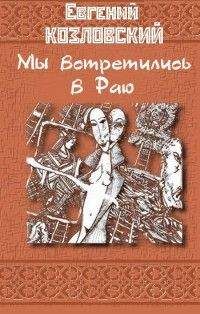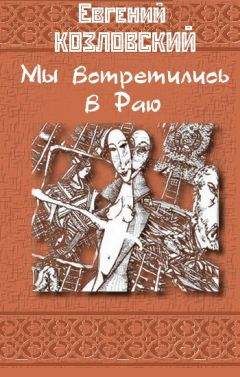Евгений Козловский - Мы встретились в Раю… Часть вторая
Под шумок Арсений скользнул из комнаты: хорошо, что Юрка не пошел! Позору-то! Позору!
135. 21.30–21.32В коридоре, как чертик из коробочки, выскочив из боковой двери, расхристанный, запыхавшийся, счастливый, с безумным, горящим взором — судя по всему этому, Кутяев поделился с ним своею добычею, — Яша горбатый остановил Арсения, схватил за пуговицу, жарко зашептал в ухо: ругают? Не слушай, не слушай их! Не обращай внимания! Ты сочиняешь потрясающие стихи. Я давно слежу за твоей поэзией, так что не обижайся, что не присутствовал сейчас на чтении. Но — умоляю, умоляю тебя: никогда не пиши прозу! Заклинаю! отшептал и снова скрылся, спеша в объятья одной из пэтэушниц или обеих сразу. Арсений, как ни паршиво было у него на душе, не сумел сдержать улыбку.
Дело в том, что лет двадцать назад Яша горбатый, — кстати, не так уж он казался и горбат, едва заметно, самую малость, — опубликовал в одном из толстых журналов повесть «Мокрая парусина» — вещь легкую и серьезную, полную юмора, намеренного абсурда, а, главное — ощущения вздоха, которое в те годы носилось в воздухе. Повесть понравилась, ее читали, о ней говорили — Арсений даже по М-ску это помнил, — но вдруг, неожиданно, громом средь ясного неба, над Яшею грянула подписанная какой-то малоизвестной критикессою рецензия в «Литературке». В «Мокрой парусине» не было, оказывается, ни стиля, ни формы, ни содержания, зато в избытке присутствовали мелкое зубоскальство, вторичность и эклектика. И Яша принял слова критикессы на веру.
С тех пор он не опубликовал ни строчки, но все эти двадцать лет, по четыре часа каждое утро, работал над какою-то до поры тайной книгою, надеясь добиться титаническим трудом и стиля, и формы, и даже содержания, избавиться, наконец, от мелкого зубоскальства, вторичности и эклектики, — в результате чего покорить-таки весь мир и заодно (а скорее — в первую очередь) строгую критикессу, которая неизвестно, жива ли еще была. Теперь Яша разделял все критикессины взгляды и шел дальше: в прозе, написанной на русском языке после Чехова, Яша не находил произведения, достойного причисления к Литературе. Да, как бы говорил он себе. Я пока говно. Но и все остальные — говны тоже!
Главная ирония заключалась не столько даже в том, что Яша жил внутриредакционными рецензиями на так называемый самотек, которые поставлял в два толстых журнала, а в том, что журналы рецензент с подобными установками более чем устраивал. Ища пищу неутолимой своей ненависти к современным прозаикам, Яша не брезговал даже ЛИТО, и критические выступления автора «Мокрой парусины» мало чем отличались друг от друга и от приведенного в одиннадцатой главе.
Вероятно, чувствуя, что, ругай он все на свете, без исключения, слова его в самом скором времени обесценятся совершенно, Яша, — никогда, даже, кажется, в ранней юности, стихов он не сочинял и ни малейшей в сем занятии потребности не испытывал, — поэзии существовать разрешал со снисходительностью на грани страсти: лишь бы поэты не покушались проникнуть в безраздельно ему с критикессою принадлежащую область прозы.
Жертвою одного из приступов этой страсти Арсений только что и стал.
136.Прочитанные на ЛИТО первые главы романа вызвали реакцию достаточно бурную и по общему тону отрицательную. И громче других в недовольном хоре прозвучали, чего Арсений меньше всего ожидал, голоса тихого Черникова и глуховатого тезки-философа. Первый, доведенный многолетней нищетою до совершенно болезненного состояния духа, сказал следующее: это так. Забавы. Игрушечки. Тебе все слишком легко дается, вот ты и бесишься с жиру. Помолчал и злобно резюмировал: как ты живешь с такой философией?! Второй выразился еще короче и определеннее: зачем ты дал своему подонку мое имя?! Арсений хотел было возразить, что это и его имя тоже, но тут же понял, что не в том суть, что сначала следует уточнить, что мы понимаем под подонком, — и в результате смолчал.
Положение Пэдика оказалось неожиданно сложным: во время Арсениева чтения руководитель, естественно, выработал критическую концепцию, но выступившие Черников и Арсений-старший походя подкинули материал для еще одной. Концепции входили друг с другом в противоречие, однако терять любую из них Пэдику было исключительно жалко, и он, немного поколебавшись, решил дать им слово в порядке поступления в кладовые своего разума, Я полагаю, что роман может получиться, если четные главы ты станешь писать от третьего лица, а нечетные — от первого, глубокомысленно начал Пэдик, опираясь, надо думать, на собственный значительный опыт романиста: вот уже пятнадцать лет мэтр работал над эпопеей о своей комсомольской юности; для того, чтобы эпопея заинтересовала журналы или издательства, автору недоставало ума и изобретательности, для того же, чтобы стала достоверным документом того времени, — в основном мужества; впрочем, возможно, и ума тоже; терпения и работоспособности автору доставало с избытком. Меж тем он перешел к изложению второй концепции: покончив с формою, приступил, так сказать, к содержанию: только зачем ты отдал отрицательному герою собственные стихи? Тем самым ты помещаешь его в один с нами ряд. А где ты видел в нашем кругу такую безнравственность: подкладывать друга в постель жены… Меняться с приятелем любовницами… И вообще…
Когда Пэдик женился в последний, пятый раз, он еще служил редактором заводской многотиражки, за что и получал в месяц около двух сотен. Невеста была юна (на два года юнее Пэдиковой дочери от второго брака) и работала за книжным прилавком, что, учитывая набравший в то время полную силу бумажный кризис и самую широкую моду среди населения на полиграфические изделия, представлялось не менее привлекательным, чем возрастная разница. Досталась невеста Пэдику в наследство от душки Эакулевича, за пару недель достаточно для писателя изучившего ее душу и пополнившего домашнюю библиотеку несколькими дефицитными новинками.
К моменту рождения сына, названного с присущими Пэдику изобретательностью и вкусом Пафнутием, многотиражку закрыли, а счастливого отца сократили с завода за полной ненадобностью. Похожая по насыщенности и разнообразию записей на Книгу Судеб, трудовая книжка Пэдика производила на знающих дело кадровиков впечатление столь глубокое, что они не решались вмешивать свои автографы в это практически завершенное произведение искусства жизни. Правда, случайные журналистские заработки давали Пэдику те же двести рублей, но, к сожалению, уже не месячных, а годовых. Оголодавшая подруга сдала Пафнутия родителям и пошла наниматься подавальщицею в ресторан, славный культурными традициями: холл предприятия общественного питания украшали мемориальные доски, свидетельства любви к оному Чехова, Горького, Гиляровского, Шаляпина, Коня Чапая и кого-то там еще и об историческом соитии за одним из столиков двоих мужчин, зачавших в результате самый прогрессивный в мире театр. Подругу взяли. Жить стало лучше, жить стало веселее.
Захватив таким образом экономику в свои руки, нежнейшая половина, в соответствии с наиболее передовым и всесильным, потому что верным, учением, стала заправлять и общественной жизнью данной элементарной ячейки социалистического социума. Номинальный ее глава — если хорошо себя вел — получал на сигареты и вино; жратва была бесплатною и доставлялась по вечерам подругою со службы. Иногда, правда, случалось так, что заветная сумка заявлялась домой только утром, а ее хозяйка выглядела сильно невыспавшейся, имела на шее синяк-другой, зато посверкивала новыми сережками или колечком. Что ж поделать — такая работа, говаривал в этих ситуациях Пэдик.
Вот так они и жили.
…должна быть внесена полная ясность, заканчивал руководитель критическое выступление, положителен твой герой или отрицателен. В том виде, в каком ты его пишешь, он порочит всех нас и льет воду на их мельницу. В Пэдиковых словах можно было обнаружить все что угодно, только не ханжество: собственная жизнь, принимаемая по-детски непосредственно, как данность, совершенно искренне казалась ему пусть не слишком легкою — вполне естественной и нормальной.
137. 21.33–21.38Спирт следует пить так, рассказывал один из кухонных гениев. Во-первых, ни в коем случае не разбавлять. Дальше: наливаешь в стакан спирта вот досюда, гений ткнул рукою, обмотанной нечистым, лохматящимся бинтом, из-под которого торчали черные кончики ногтей, в липкий после портвешка стакан, на три четверти приблизительно, и бросаешь кусок сухого льда: знаете, которым мороженое студят. Он сразу забегает, зашипит, такой белый дым через края полезет, гений очертил в воздухе руками нечто, напоминающее гидру в разрезе из школьного учебника зоологии. А когда стакан покроется инеем, пьешь, как простую воду. Можно даже маленькими глоточками или через соломинку — никаких тебе градусов, никакого жжения или там сухости. Дальше: выжидаешь минут десять, берешь стакан теперь уж натуральной воды, гений священнодействовал в воображении, сопровождал рассказ жестами, эффектными паузами, значительным закатыванием глаз, главное, не забыть про воду, а то проспишь как дурак всю ночь, а кайф хрен словишь, и заглатываешь ее. Спирт, понимаешь, идет на всасывание, и… Арсений сидел на кухне, на краешке стола и, пытаясь разогнать скверное настроение, просматривал тонкую рукопись. Ее принесла появившаяся сегодня на ЛИТО впервые худенькая большеглазая женщина. Шансов быть оглашенной на нынешнем заседании рукопись не имела: озверевшие лауреаты, пользуясь правом внеочередного чтения, толкались локтями в длинной очереди: в углу, где расположился маститый критик, мерещились им проблески грядущей славы.