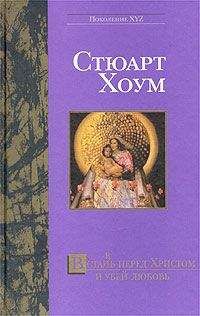Заза Бурчуладзе - Минеральный джаз
Часть четвертая
XXVII
Просыпайтесь, смертные!
Рождается новая часть! К вам возвращается истина, а все, что застило ее, — туманные призраки, тени и привидения — вас покидает. И когда вы решитесь из своего фальшивого, удушливого мирка бросить взгляд в колыбель чистой, неоспоримой правды, то черт меня побери, если сие не означит, что вы собственным своим изволением скучной, серой, незатейливой яви предпочли это битком набитое вздором, бестолочью и выдумками повествование, неумолимо раскалывающее, разбивающее вдребезги, обращающее в прах — да простит и помилует меня Господь Бог! — любую явь и все близкое и сходное с нею. Я не примусь, опасливые мои, досаждать вам уверениями в том, сколь глубокие пропасти и непролазные заросли пролегают меж тем и другим, сколь огромно и неохватно глазом несходство пошлой, унылой яви и убедительного, броского вымысла, того единственного, к чему стоит обращать отвагу духа и ясность мысли, вкупе являющими непреоборимую силу, приводящую в восторг, подвигающую на героические деяния, возвышающую душу и обращающую ее к небесам. Убежден, мои чуткие, вам все это ведомо куда лучше, нежели автору. Уклонюсь от обетований, что в предлежащей вам части поведу речь об этих вопросах, ибо, хоть в предшествовавшей и посулил потолковать о пифагорейской или как там ее любви, о бытии и небытии, о ставшем любезном нам семействе, Бог знает еще о чем, а многого ли достиг, во многое ли вник и проник? Впредь я вознамерился обращаться и останавливаться лишь на том, что по ходу текста, а стало быть дела, будет взбредать мне в башку. А что в нее не взбредает ничего, кроме дурацких затяжных рассуждений, высокопарных тирад, назойливой потешной бредятины и восхвалений собственных россказней, вы, мои восприимчивые, давно уж приметили. В плетении же словес сего живого и бойкого сочинения важно не одно только перечтенное, как вы сами, зоркие, видите. Ну, а раз видите, то не миновать вам заприметить и то, что я не остановлюсь ни перед чем, только бы оно долго-предолго хранило в вас след неизгладимого, ошеломляющего впечатления. И не в одних лишь вас, но и, черт побери, в потомках! Замахнуться я, что ни говори, а мастер! И какой! Замахивался не раз и не два, ну а уж подзадоренный, подстегнутый верой в будущее — тем единственным, что придает мне сил петушиться и хорохориться, — почту за позор и поношение, когда тотчас же во весь дух не прокричу о том, что тщился, тщусь и, доколе во мне держится жизнь, буду тщиться преодолевать и опережать свое время и обращать трубный глас только и только к потомкам и вечности. Стоит ли вообще отклоняться на что-то иное?! Что ж, что шуточки мои, прибауточки порой рассеиваются и развеиваются, а от остроумных суждений не остается и мокрого места? Что ж с того? Ведь по самую сию пору не могу уберечься и не найду в себе сил отринуть — хоть, признаюсь, толком еще и не пытался — чрезмерной, неумеренной склонности и любви к восхвалению, возвеличению, ведь паче жизни обожаю я свое доброе имя. Потомки же представляются мне тем единственным, кому по силам и по уму это имя восславить, осенить ореолом величия и обессмертить. И хоть я и ясно осознаю, что оно, сие имя, только и всего, что слабенький глас и бездушное эхо, скоропреходящая, тленная эфемера, хоть держу в памяти древнюю мудрость: гляди, не оцезарись, не пропитайся порфирой, ибо что есть имя твое, когда и целое море — капля для мира, гора Афон — песчинка, а всякое настоящее в токе времени — точка для вечности. И не вздумайте полагать, будто я просто дурачусь, ибо, Господь мне свидетель, говорю сущую правду. Истинно, истинно говорю вам… И яснее ясного представляю себе, сколь заносчиво сие мое заявление, осознаю, как воспримет его грядущее, однако настаиваю и не единожды повторяю: не утрачу отваги, не превышу самооценки, не принижу, не растопчу себя, как все перечтенное свойственно множеству сучьих отпрысков, но во всеуслышанье, во весь глас, без смущенья и робости провозглашу: как казначею свойственно превыше всего попечение о казне, трубачу забота о своей трубе, так и мне неумеренней и неистовее всего присуща, близка и неотъемлема жажда и алчба покрыть славою свое имя, вслед за чем неустанно пещись и труждаться о его величии и бессмертии. И дабы вслед за этой дерзкой преамбулой и со мной не приключилось того же, что, за малым изъятием, приключалось с великими авторами по проставлении за главным в своей жизни высказываньем точки, не дожидаясь, пока скверные уста мои не отрекутся от самими ими исторгнутых слов, в соответствии с уставом братства рыцарей-пилигримов тотчас со всею ответственностью провозглашу же: да падет на меня гнев Господень и да доймет меня дьявол, когда я хоть малость лукавлю, хоть чуть-чуть юлю и виляю, хоть на йоту преувеличиваю! Изрекаю лишь то, что почитаю за надобное и что являет собой неприкрашенную истину. Истину же я соотношу с одним только настоящим, ибо в будущем, завтра может быть поздно и по-другому. И покорнейше вас прошу, уживчивые мои, не укорять меня своим «видано ли столь беззастенчиво выдавать про себя такое-этакое!» Я полагаю сие и возможным, и нужным, и пусть всякий думает, что о сем ему хочется. И позвольте полюбопытствовать, как вам кажется, для чего какой-нибудь Цезарь затевал пропасть войн, не щадил своих подданных и то и дело подвергал смертельной опасности и самого себя? Неужто лишь пекся о расширении границ и усилении мощи отечества? Не без того, должно быть, однако сдается мне, все сие было не целью, а средством, точней средством к достижению цели. Вселенская цель же не что иное, как неукротимая жажда прославить и возвеличить свое имя. Бедолагам-завоевателям то и дело мерещилось, как по всему миру прокатывается весть о невиданных и неслыханных их победах и одолениях, как не сходит их имя с уст дам высшего общества и простолюдинок, почтенных глав высокородных семейств и сопляков-недоучек и даже всякой твари и сброда. И не воображайте, что он таил от кого это свое побуждение! Не допускайте мысли, что хранил его в укромных уголках своей памяти. Ничуть не бывало! То и дело обращался к когортам с призывами доставлять ему счастье победы, долженствующей покрыть громкою славою его имя и озарить осиянное ореолом величия! Только, повторяю, и знал. Какая, любопытствуете, связь между нами и Цезарем? Эге-ге! Ну и ну! Так вы полагаете, что все эти сраженья букв и значков я затевал во славу своей старой бабки? И вам ни о чем не говорят подлежащие покорению и уже покоренные слоги и словеса, тьма осад, рати павших и стертых с лица земли бастионов и замков? Занятно. Покорнейше вас прошу, не отвлекайтесь, сосредоточьте вниманье на том, что я сейчас провозглашу вам: подавляющее большинство храбрейших военачальников, по милости природного своего пронырства и прохиндейства и дарованного Господом-Богом таланта возглавивших множество величайших сражений, были кривыми. И что ж, что по молодости своих лет я не свершил еще ничего восславляющего всякое имя и званье? Не вызвал в памяти ближних чело под лавровым венцом, не содеял достойного даже соломенной шляпы? Ведь не это главное! Вспомним, чтоб не уходить далеко, не с угодничества ли и сводничества начались великие подвиги все того же помянутого нами Цезаря? К моим нынешним летам он, правда, провернул себе пару-тройку громчайших триумфов, пару-тройку же раз бывал консулом, а он замышлял и свершал все новые и новые удивительные деяния. Но не это, не это все-таки главное! Мне не преминут, должно быть, тотчас же возразить: позвольте, именно это и есть самое главное, можно даже сказать, главнейшее, однако же несогласье сие лишь подтверждает мою позицию. Но что это я так негодую, так неистовствую, так тревожусь за Цезаря? Кто лучше меня ощутит и уловит в недрах плоти моей и духа венценосного триумфатора? Кто другой, скажите, всезнающие мои? Между тем сам я, погружаясь в сии глубины, чуть не воочию вижу его, увенчанного, в облике взлетевшего над хлебопекарною печью пекаря, оторвавшегося в порыве деянья от подножия своих стоп и оттого не принадлежащего ни земле и ни небу. Виденье сие не постоянно и даже не длительно и, как очарованному мавру, то является мне, то исчезает. По причине, должно быть, заточенности в сновидении. Но, вырвавшись из него, пробудясь, оно… оно тогда… цветущие мои и благоухающие, тогда… Сам же я никогда не устану домогаться у этого прохвоста: лев, отчего ты спишь столь глубоким сном?
Приспело, и когда вы, господа, не поддадитесь лени и благодушию, а вставите в соответствующие ячейки предшествующего абзаца вместо Цезаря имя кого-нибудь из титанов джаза, тех же, допустим, Монка или Долфи, то разглядите и различите все куда наглядней и явственней. Льщусь надеждой, что вы и без клятвенных заверений доверитесь моему сообщенью о том, что и в джазе имела место такая же, если не большая, искренность, читай — лицемерие. И если вы со всем душевным вниманием вдумаетесь и вслушаетесь в сладчайшие, обворожительные, упоительно звучащие, одуряюще свежие темы джаза, — тотчас уловите, угадаете, внутренним ухом усвоите, прозрите особенность дара всякого из исполнителей, его свойства и наклонности, проникнете в то, что скрыто и невидимо глазу, а именно: что все без изъятья титаны, как языками огня, охвачены маниею величия, прилагают все им данные и не данные силы, дабы вырваться, быть замечену, выделиться (разумеется, без ущерба для всей композиции) и всякому прославлению предпочитают прославленье своего имени, и взгляд очей их застлан пеленою кичливости, и все другое, кроме этого имени, они не ставят и в грош, и пальцем не шевельнут ради чего иного, и после них хоть потоп, и без зазрения совести, без всякой уклончивости гнут и гнут только свое, будь погруженными в эксперименты новаторами, проникнутыми сложными и противоречивыми чертами романтиками, жесточайшими, неумолимыми деспотами или воздушно-легчайшими, утонченнейшими, изысканнейшими, образнейшими и — полагаю, что не впаду в гротеск и преувеличение, — явившими не слыханную доселе проникновенность лириками.